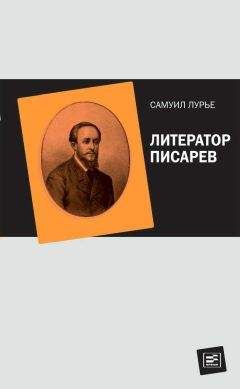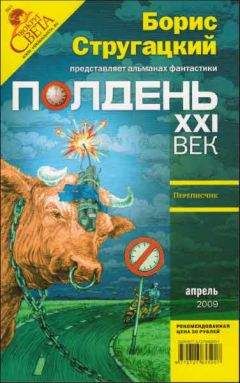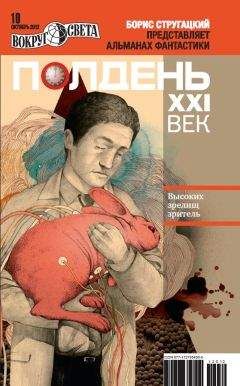И как он не понимает, что нельзя же безнаказанно ставить женщину в такое неловкое и комическое положение, что после каждого слова надо в скобках вставлять: а все-таки я люблю Евгешу, а не тебя, и если бы даже разлюбила Евгешу, то все же тебя не полюблю. Ведь если в ругательстве над Катковым и в похвале Брему он мог усмотреть надежды для себя, то глумление над Станицким может показаться ему признанием в любви; а неодобрение музыки, чего доброго, равносильно приглашению в спальню. Хорошо, что с этой последней стороны я гарантирована тем, что люблю музыку и ратовать против нее не стану. Ведь это сумасбродство. Ведь этой манией он напрашивается в субъекты юмористических романов Теккерея и Диккенса. Что против него Сэдрифт, ежегодно повторяющий свое предложение, — мальчишка и щенок.
…И наконец, как-таки он не разочтет, что своим нелепством вынудит прекращение всяких возможных отношений. Пока он в области отвлеченностей, или, по крайней мере, говорит о посторонних предметах, он для меня умный, развитой человек и приятный собеседник. Как только речь коснулась меня, — маниак. Сейчас понесет чепуху непроходимую. Возможны ли тут какие-нибудь разумные отношения. Ну как я скажу, например, что с особенным удовольствием читала последнюю часть „Нерешенного вопроса“, что она за живо затрагивает. Батюшки светы! Что же бы то было! J’aurais été considérée plus amoureuse que l’amour et plus passionée que la passion[25]. Да мало того, а что же, если бы пришлось признаваться, что рассказ „Записки гувернантки“, о котором я Вам говорила, так сходится во многом с этою последнею частью, точно я спетую песню на ноты положила, или наоборот. Ну что же бы тогда-то он сказал?! N’irait-il pas s’imaginer que je l’ai violé, dominée par ma passion?[26] — Нет, право, надо же когда-нибудь образумиться! Ведь я не в первый раз надсаживаюсь, стараясь убедить его, что сходство убеждений еще ничего не значит. Несколько людей одинаковых убеждений будут все-таки разниться между собою, потому что всякий имеет свою индивидуальность. Да нет, скучно и толковать… Взять чулок вязать — будет полезнее.
Главное, что обесительно, что ведь Митю ничем не проймешь; он, пожалуй, вот и таким письмом может быть доволен: дескать, пусть себе пишет, а я буду читать; уж и то хорошо! Мама, вы этим письмом располагайте как хотите. Если сочтете нелишним дать прочесть его, то давайте; только, пожалуйста, не принимайте это за просьбу с моей стороны. Ну, покончу с этим предметом. Досада начинает разбирать. Да и устала ужасно…
Мама, да давайте ж как-нибудь Митю-то урезонивать; ну что это, право. Ведь он же дорожит дружескими нашими отношениями, так зачем же делать их невозможными…»
Ну-с, что вы на это скажете? Кто из нас в здравом уме, а кто перетолковывает каждую фразу, отыскивая в ней запретный смысл, и сам за собою это замечает, и злится за это на себя и на других? Кто, изо всех сил напуская на себя такой добродетельный, такой безучастный вид, словно речь идет о шалостях несовершеннолетнего племянника, — на самом деле судорожно ищет, бедная, предлога лишний раз вспомнить вслух про отношения и чувства?
Вот когда — впервые за пятнадцать лет — Писарев узнал до глубины, что такое свобода: словно в детстве, играя в битву краснокожих, он был нечаянно ранен индейской стрелой, и наконечник с обломавшимся древком застрял в груди, зарос, как бы забытый, лишь при неосторожных движениях причиняя боль, — а теперь вдруг нету раны и нет стрелы: как бы приснились. Блаженная, праздничная скука; ничего не болит; обида и любовь значительно уменьшились в размерах. Пришел его черед сказать отповедь. И он написал:
«Mia саrа. В твоем последнем письме ты очень остроумно сражаешься с ветряными мельницами. Никакого хронического жениха тебе не предстоит. Чтобы совершенно успокоить тебя, даю тебе конституционную хартию наших будущих отношений. Когда я буду вполне располагать своими поступками, тогда я предложу тебе письменно вопрос: желаешь ли ты меня видеть? — и если ты не ответишь мне просто и ясно: „желаю“ — то и не увидишь меня. Если нам придется увидеться, то, разумеется, о любви с моей стороны не будет ни слова до тех пор, пока ты сама того не пожелаешь, — а так как ты уверена в том, что не пожелаешь никогда, то никогда этого не будет».
— Так ей и надо!
«На безбрачие я себя не обрекаю, но намерен жениться только тогда, когда совершенно ошалею от любви к какому-нибудь субъекту, но теперь мне этими пустяками заниматься некогда…»
— Вот вам и Лидочка, — с улыбкой пробормотала Варвара Дмитриевна, промокая переписанную строку крохотным яшмовым пресс-папье.
«…во 1-ых потому, что я — казенная собственность, во 2-ых потому, что нам дают карательную цензуру, которая наполняет теперь все мои помыслы».
Это была чистая правда.
«Вообще же думаю, что жизнь велика и что много чудных перлов скрыто в ее глубине. Пользоваться этими перлами я вовсе не прочь, но отыскивать их не намерен, потому что надо работать, а не шалопайствовать. Когда же некий перл сам влезет мне в руки, я его не выпущу».
Это писано в конце марта, когда о болезни цесаревича еще никто не знал и до освобождения оставались вроде бы считанные недели.
«Довольны ли вы этим, злобущая леди Макбет и свирепая разрушительница ветряных мельниц? Если довольны, то не смейте говорить, что я добиваюсь приятельских отношений с вами. Я друг вашего детства, и поэтому мне добиваться каких-то приятельских отношений совсем не к лицу. Это все равно, как если бы генерал-лейтенант стал добиваться полковничьих эполет. Кроме того, я ничего не намерен от тебя добиваться. Довольно я поползал перед тобою на коленях. Наконец-то мне это глупое занятие надоело, и с этой минуты я поднимаюсь на ноги и выпрямляюсь во весь рост. Любить я тебя буду, вероятно, всегда, но добиваться — баста. Что дашь — спасибо, а просить не желаю. До свидания».
Дрогнул все-таки голос под конец. Но какое это имело значение, если встреча, на которую и надежды-то не осталось, теперь была неизбежна и так близка — через неделю-другую, не дальше.
Кто же знал, что так выйдет: вместо иллюминации — траур, и об амнистии даже помышлять как бы неблагопристойно: уж не рассчитываете ли, дескать, горе августейшей семьи и целой России обратить в предлог для поправления ваших собственных ничтожных обстоятельств?
Положим, от христианского государя не вовсе нелепо было бы ожидать, что боль своего непоправимого несчастья раскроет ему глаза на чужое страдание и он устыдится зла, причиненного стольким людям по его воле.