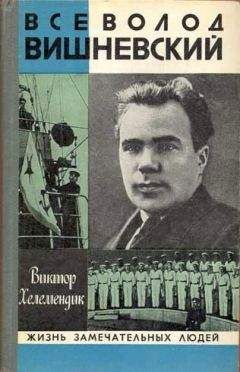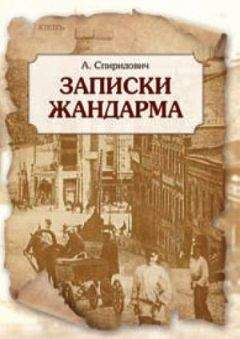О характере работы участников оперативной группы писателей может свидетельствовать индивидуальный план на октябрь — ноябрь 1941 года, составленный Вишневским: издание брошюр «Балтийский стиль» (очерки о Краснознаменном Балтийском флоте) и «Кронштадт — огневой щит Ленинграда»[40] подготовка сценария документального фильма о флоте; серии новых очерков для «Правды», «Ленинградской правды», радиовыступления, лекции: «Международное положение», «Балтфлот в Отечественной войне» (обзор за 100–110 дней), «Традиции Балтфлота».
Группа писателей несколько раз меняла место своего размещения. Вначале находилась в мрачноватом сером доме на набережной Красного флота № 38. В большой комнате стояли застланные по-солдатски койки, письменные столы. Холодно, на окнах — черные бумажные шторы. Чай и микроскопическая порция жесткого хлеба внизу в командирской столовой (в этом доме было размещено Политуправление). «Однажды, — пишет Вс. Азаров, — нам выдали дополнительно по небольшому комку ноздреватой массы: это был сыр из казеина, сырье, обработанное для изготовления пуговиц, которому волею событий пришлось стать заменителем пищи. Мы подсушивали неожиданный дар на батарее парового отопления, он издавал чудовищный запах, был несъедобным, но, конечно, мы его ели».
В конце дня члены группы возвращались после выполнения заданий, и по установленному им правилу Всеволод Витальевич делал короткий оперативный доклад об обстановке на фронтах. Все по очереди рассказывали об увиденном и услышанном в частях, в городе; читали друг другу строчки написанного, письма от близких. Даже в самое трудное время в группе царил дух сплоченности, взаимовыручки, высокого достоинства и братства. В создании такой атмосферы несомненна заслуга Вишневского. «Я хочу, чтобы группа была спаянной и дружной, — писал он в дневнике. — За службой никогда не должна пропадать человеческая писательская душа… Революция имеет смысл только как дело человечности, простоты, ясности и дружбы…»
Одно человеческое качество вызывало особое раздражение и нетерпимость со стороны Вишневского — трусость. Но сам он, как истый военный, не бравировал своей отвагой. Не сосчитать, сколько километров прополз Всеволод Витальевич по траншеям и рвам Пулкова, Ораниенбаума, Невской Дубровки, на скольких боевых кораблях и в авиационных частях побывал, чтобы добыть «горячий», из первых уст материал для печатных и радиовыступлений, для бесед с народом.
Маршруты Вишневского — в редакции газет, отделение «Правды», в городской комитет партии и радиокомитет — пролегают по полуразрушенным, обезлюдевшим улицам и площадям. Уже наступили холода, и все труднее и труднее становится жизнь в осажденном городе. Положение с продовольствием ухудшается: сахару выдают по пятьдесят граммов на десять дней, масла нет, с волнением ждут объявления завтрашних норм хлеба. На базаре кило капусты стоит пятьдесят рублей, за ней очередь. Из жмыхов делают лепешки. Хлеб, водка и теплая одежда — вот нынешняя ленинградская «валюта».
У некоторых людей сдают нервы, это заметно. Но большинство держится крепко. Как-то еще в октябре Вишневский возвращался железной дорогой из пригорода в Ленинград. В вагоне разговоры, стремительные знакомства моряков с девушками… Вдруг ему показалось, что все это — вне войны. Вечные черты русского характера — доброта, открытость, простота…
Всеволод Витальевич пристально всматривается в изменившийся пейзаж родного города, в лица людей, в неимоверно тяжкий блокадный быт. Шагают мальчишки-ремесленники; они учатся, работают. Вид у них тоже утомленный, и тем глубже значение их труда. Везде женщины, женщины… Много, конечно, одиноких, вдов, таящих горе, — они несут бремя войны с необычайным упорством. Война и ее исход, размышляет Вишневский, решаются не только в окопах: гигантское общее усилие народа, стоицизм женщины в огромной мере определяют ход событий.
Поздняя ночь. Он сидит в своем закутке, отгороженном фанерой от комнаты, где спят боевые товарищи, и пишет, создавая в дневнике неповторимый образ блокадного Ленинграда: «Мороз. Иду из Политуправления, тащу кусочек хлебца… Тьма. Все вокруг в морозном тумане… Деревья, металл, камни — все в инее… Под ногами скрипит снег… Решетки, Исаакий, Адмиралтейство — все бело. Причудливо спутанные провода. У заиндевевшей решетки белого ледового Летнего сада на снегу сидит человек, странно раскинув ноги. Просто устал? Или умирает…»
Жестокая дистрофия свалила и Всеволода Витальевича: кровь хлынула горлом, он потерял сознание. Хорошо, что рядом оказались люди — свезли в госпиталь, где он пролежал целый месяц — по 4 января 1942 года. И здесь, несмотря на крайнюю слабость, продолжал вести дневниковые записи: «1 декабря 1941 года (163-й день войны). В госпитале. Ночью привезли… Почти без памяти… С утра слабость. Жаль, но здоровье сдает…
Дотронулся до десен, идет кровь. Походил — слабость. Врач расспрашивает, говорит: „Это резко выраженный авитаминоз“.
В госпитале две с половиной тысячи раненых и больных, при норме — полторы тысячи человек. Ночью привезли раненых из-под Колпино».
И отсюда Вишневский продолжает держать тесную связь с оперативной группой писателей, всем интересуется, вникает в каждую деталь. В записочке своему заместителю Г. И. Мирошниченко есть проникнутые дружеской заботой строки: «Гриша, как обстоят дела с едой, выдали ли ушанки, валенки, кожухи?..» Редактирует статьи, очерки коллег для центральной прессы, проводит беседы с ранеными, задумывается о литературном творчестве: сейчас он писал бы «быт войны», социальные зарисовки, тщательные и многосторонние.
В общем, продолжает работать.
Как лечить дистрофию? Вишневский сам для себя определяет пути лечения:
«1) Прорвать блокаду Ленинграда.
2) Некоторое улучшение питания.
3) В будущем: диета и отдых (?!) после победы…»
В этом «рецепте» весь характер Вишневского — воинствующий, неукротимый.
В те дни поднимали на ноги не только лекарства, не только лишний грамм хлеба, но и вера в победу, а ее у Всеволода Витальевича хватало не только для себя — и для других. В феврале 1942 года, когда дистрофия настигла Тарасенкова, он пишет ему такие ободряющие и вдохновляющие строки: «Я хотел бы сказать людям, Маше, твоему сыну, матери, близким: „Да, Анатолий — воин, коммунист, моряк, — работа в „Знамени“ была органичной, и это было доказано на войне в полном объеме“.
А сам Вишневский поправлялся медленно. Сказывалась и его давнишняя болезнь, заявившая о себе еще в середине тридцатых годов, — гипертония.
Ему тоже помогали друзья своим вниманием, посещениями, письмами о делах. А однажды вечером услышал по радио стихи Азарова, посвященные ему, Всеволоду Вишневскому: