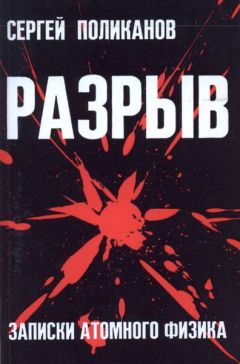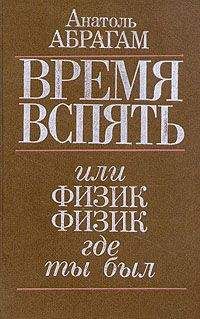Во французское и английское издания этой автобиографии я включил в знак признания и дружбы перечень сотрудников (увы, далеко не всех), которые чередовались в моей лаборатории. Я полагал, что большинство, прочитав одну или другую версию, увидят, что я о них не забыл. Так как по-русски они не читают, кроме, может быть, одного из них, сначала я хотел пропустить эту часть. Но потом мне это показалось маленькой изменой, и я эту часть сохраню, заранее извиняясь перед русским читателем и приглашая его пропустить то, что вряд ли может его заинтересовать. Этот перечень я разобью на две части. В другой главе я напишу специально о тех, кто участвовал в многолетней работе по изучению ядерного магнитного порядка, которую я считаю главным своим достижением и опишу подробно.
*Моя лаборатория увидела свет, если я могу так выразиться, в подвале Ecole Normale Парижа в 1954 году. На следующий год она была перенесена в Сакле, где просуществовала до 1968 года. Затем она была перенесена в другой центр, так называемый Orme des Merisiers, в трех километрах от Сакле (об основании которого я расскажу в следующей главе), где она находится по сей день. В течение первых лет численность сотрудников мало менялась: десяток физиков, которые в КАЭ звались инженерами; от трех до пяти аспирантов, работающих над диссертацией, от пяти до десяти техников, и от двух до пяти физиков из-за границы — немало для легкой науки, но жидковато для тяжелой.
Первые подручные
Я уже писал об Ионеле Соломоне, который оставил меня в 1962 году, чтобы основать собственную лабораторию в Политехнической школе. С самого начала работа этой лаборатории была замечательно успешной. Главной темой ее исследований были полупроводники, а методом исследований — магнитный резонанс. В длинной серии исключительно изящных экспериментов, пользуясь всеми возможностями магнитного резонанса, оптики и электрических измерений, он открыл немало новых эффектов. Это он посвятил трех из моих первых сотрудников — Мориса Гольдмана, Андре Ландесмана и Жозе Эзратти (Maurice Goldman, Andre Landesman, José Ezratty) — в тайны экспериментальной техники магнитного резонанса.
О Жане Комбрисоне я уже говорил и вернусь к нему в будущей главе, где расскажу, как я стал директором отделения физики.
Жак Винтер (Jacques Winter) пришел ко мне после защиты очень интересной диссертации у Бросселя. Его обширные познания в физике твердого тела и в атомной физике, а главное, его прекрасно развитый критический ум были полезны всем и в первую очередь мне. Я охотно говорил (полушутя), что, какой бы я ни предлагал новый эксперимент, Винтер убедительно доказывал, что, во-первых, это невозможно, во-вторых, не представляет интереса и, в-третьих, уже давно было сделано. Пробиться через этот тройной барьер (что мне иногда удавалось) было тонизирующим упражнением. Винтер покинул на время КАЭ, чтобы занять должность научного директора в НЦНИ (CNRS), служил несколько лет вице-директором в ИЛЛ и снова вернулся в КАЭ, где он теперь заведует научным департаментом в Гренобле.
Жозе Эзратти был сотрудником, с которым все в лаборатории любили работать, и сотрудничал со многими из нас. Все ценили его доброжелательность и юмор. Теперь он директор учреждения, задачей которого является подыскивать места для работы в промышленности молодым кандидатам наук.
Андре Ландесман долго работал над динамической поляризацией в жидкостях. Я отправил его на два года в командировку в США, откуда он вернулся специалистом по твердому 3Не. Он сделал несколько интересных работ в этой области и написал прекрасный обзор об обменном взаимодействии. Я широко воспользовался этим обзором в монографии, которую написал вместе с Гольдманом в 1982 году.
Шарль Ритер (Charles Ryter) — швейцарец по национальности — пришел ко мне уже опытным специалистом ЭПР. Он соорудил спектрометр необыкновенной чувствительности и первым наблюдал так называемое смещение Оверхаузера, которое возникает в металлах при усиленной ядерной поляризации. Теперь он астрофизик.
Мишель Боргини (Michel Borghini) успешно работал над динамической поляризацией и над конструированием поляризованных мишеней сначала у меня, а затем в ЦЕРН'е, где он трудится и теперь.
Клод Робер (Claude Robert) — необыкновенно искусный экспериментатор (он первым наблюдал ЯМР 57Fe в необогащенном изотопическом железе), теперь профессор физики в Страсбурге.
Морис Герон (Maurice Guéron) — сын Жюля Герона, одного из лидеров юного КАЭ, — защитил хорошую диссертацию по ЭПР в полупроводнике InSb, а после того переключился на ЯМР в биологических веществах. У него теперь своя лаборатория в Политехнической школе.
Дени Жером (Denis Jerome) защитил прекрасную диссертацию о переходе металл — диэлектрик в сильно легированном кремнии. После того, как он покинул мою лабораторию, он стал известен своими работами по органическим сверхпроводникам. Боюсь, что злободневность его работ пострадала от недавнего открытия сверхпроводников с высокой критической температурой.
Жан-Марк Дельриё (Jean-Marc Delrieu), работая без всякой моей помощи, защитил выдающуюся диссертацию о ЯМР в вихрях сверхпроводников второго рода, а затем сделал очень оригинальную работу о природе обменного взаимодействия в твердом 3Не. Его, скажем, независимый характер создавал проблемы, пока он не удалился из лаборатории, чтобы работать в «своем углу».
Ганс Глаттли (Hans Glattli) — швейцарец, изучая с помощью ЯМР свойства твердого метана, открыл оригинальный способ определения его низко лежащих уровней энергии. Путем облучения он создавал в метане парамагнитные центры, энергии которых при известных значениях магнитного поля входят в резонанс с уровнями метана. К нему я еще вернусь.
Вильямс (Williams), прозванный почему-то Тито, прибыл ко мне из Оксфорда как специалист по ЭПР. В течение некоторого времени он тщетно искал метастабильные возбужденные состояния в твердом 3Не, следуя моей (безумной) идее использовать их как парамагнитные примеси для динамической поляризации. После этого он изучал поведение ионов и электронов над поверхностью жидкого гелия. Эти работы, вдохновленные Валерием Шикиным, приехавшим к нам из Института физики твердого тела, были очень успешны. По моему настоянию он отмежевался от моей лаборатории, с которой его работы уже не имели ничего общего, и основал собственную группу.
Рей Фриман приехал из Оксфорда. Химик по специальности, он существенно развил ЯМР высокого разрешения. Однажды я сказал ему, что среди ломаного английского, который царил в лаборатории, он является нашим стандартом английского языка, на что он ответил: «Пора отослать ваш стандарт домой для новой калибровки».