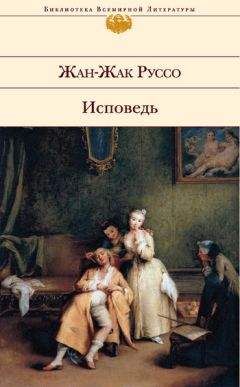Лесков, подойдя к тому месту, где сидел Шпильгаген, обратился к нему в чисто российском вкусе.
Но тот же П. И. Вейнберг сообщал мне по смерти Лескова, что, когда они с ним живали на море (кажется, в Меррекюле) и гуляли вдвоем по берегу, Лесков всегда с интересом справлялся обо мне и относился ко мне как к романисту с явным сочувствием, любил разбирать мои вещи детально и всегда с большими похвалами.
Он высказывался так обо мне в одной статье о беллетристике незадолго до своей смерти. Я помню, что он еще в редакции «Библиотеки для чтения», когда печатался мой «В путь-дорогу», не раз сочувственно отзывался о моем «письме». В той же статье, о какой я сейчас упомянул, он считает меня в особенности выдающимся как «новеллист», то есть как автор повестей и рассказов.
Из новых критиков Волынский занялся Лесковым как крупным дарованием и, по мнению некоторых, даже слишком поднял его.
Так или иначе, но мне как редактору «Библиотеки» нечего, стало быть, сожалеть, что я дал главный ход автору «Некуда», хотя он так и повредил журналу этой вещью.
Теперь, когда и этот автор давно уже отошел к праотцам, какие же могут быть у нас счеты?
И я был искренно доволен тем, что «Русская мысль» наконец «реабилитировала» Лескова и позволила ему показать себя в новой фазе его писательства. Этого немногим удается достичь на своей писательской стезе. Рядом с фигурой Лескова как нового сотрудника «Библиотеки» выступает в памяти моей другая, до сих пор полутаинственная личность.
Это был А. И. Бенни. Мне привел его Лесков, и они постоянно оставались в приятельских отношениях.
После смерти Бенни Лесков выпустил, как известно, брошюрку, где он рассказал правду о своем покойном собрате и старался очистить его от подозрений… ни больше ни меньше как в том, что он был агент-провокатор, выражаясь по-нынешнему.
Когда Бенни впервые попал в редакцию, я почти ровно ничего не знал об его прошлом. И Лесков и Воскобойников (уже знакомый с Бенни) рассказывали мне только то, что не касалось подпольной его истории.
А подпольность эта заключалась в том, что Бенни (Бениславский), сын англичанки и польского реформатского пастора еврейского происхождения, как молодой энтузиаст, стал объезжать выдающихся русских общественных деятелей (начиная с Каткова и Аксакова) для подписания адреса о даровании конституции.
Сам Бенни бывал со мною очень сдержан и говорил только о том, что не касалось интимной стороны его жизни. В нем я увидал сразу очень образованного европейца, бывалого, с большим интересом к общественным политическим вопросам. Он уже работал в русских газетах (в том числе вместе с Лесковым), по-русски говорил хорошо, с легким, более польским, чем английским акцентом, писал суховато, но толково и в передовом духе. Беседа его была всегда занимательна. Но — это правда! — было всегда что-то в его тоне, усмешке, разных недосказах полутаинственное. Оно-то и повредило ему всего больше.
Он приносил свои статьи, захаживал и просто, к себе не приглашал, много говорил про заграничную жизнь, особенно про Англию. Никогда он не искал со мною разговоров с глазу на глаз, не привлекал ни меня, ни кого-либо в редакции к какой-нибудь тайной организации, никогда не приносил никаких прокламаций или заграничных брошюр.
Такой «провокатор» был бы крайне курьезен.
Но у него и тогда уже были счеты с Третьим отделением по сношениям с каким-то «государственным преступником». Вероятно, он жил «на поруках». И его сдержанность была такова, что он, видя во мне человека, явно к нему расположенного, никогда не рассказывал про свое «дело». А «дело» было, и оно кончилось тем, что его выслали за границу с запрещением въезда в Россию.
Тургенев, когда я с ним познакомился, был также вызван в Петербург Третьим отделением для дачи каких-то показаний.
И вот он раз, когда речь зашла о Бенни (он его знавал еще с тех дней, когда тот объезжал с адресом), рассказал мне, что дело, по которому он был вызван, ему дали читать целиком в самом Третьем отделении. Он прочитал там многое для него занимательное.
— И показания Бенни, — сказал он мне — отличаются необыкновенной порядочностью. Ни единого оговора, ничего такого, что показывало бы желание выгородить только самого себя. А другие тут же повели себя совсем не так!
Мне было особенно приятно это слышать. И я никогда не хотел иметь против Бенни никакого предубеждения.
Он уехал за границу, стал печатать английские статьи. Но участвовал ли в каких русских газетах, я не знаю.
Наше свидание с ним произошло в 1867 году в Лондоне. Я списался с ним из Парижа. Он мне приготовил квартирку в том же доме, где и сам жил. Тогда он много писал в английских либеральных органах. И в Лондоне он был все такой же, и так же сдержанно касался своей более интимной жизни. Но и там его поведение всего дальше стояло от какого-либо провокаторства. А со мной он вел только такие разговоры, которые были мне и приятны и полезны как туристу, впервые жившему в Лондоне.
За дальнейшей его судьбой за границей я не следил и не помню, откуда он мне писал, вплоть до того момента, когда я получил верное известие, что он, в качестве корреспондента, нарвался на отряд папских войск (во время последней кампании Гарибальди), был ранен в руку, потом лежал в госпитале в Риме, где ему сделали неудачную операцию и где он умер от антонова огня.
Все это было рассказано в печати г-жой Пешковой (она писала под фамилией Якоби), которая проживала тогда в Риме, ухаживала за ним и по возвращении моем в Петербург в начале 1871 года много мне сама рассказывала о Бенни, его болезни и смерти. Его оплакивала и та русская девушка, женихом которой он долго считался.
Из его родных я раз видел мельком его сестру, а в Париже познакомился с его братом, Шарлем Бенни, который учился там медицине, а потом держал на доктора в Военно-медицинской академии и сделался известным практикантом в Варшаве.
Этот Шарль очень офранцузился, по-русски говорил с сильным акцентом, и в его типе сейчас же сказывалась еврейская кровь. Артур (то есть наш Бенни) только цветом рыжеватой бородки и остротой взгляда выдавал отчасти свою семитическую расу.
За еврея никто из нас не имел права его считать; да и он был настолько щекотлив по этой части, что ему нельзя было бы предложить вопроса — какой он расы. Он, видимо, желал, чтобы его считали скорее англичанином.
И вот тот факт, что он как бы скрывал происхождение свое от отца, ополяченного еврея-протестанта, навлекло на него и после смерти опять новые нарекания и по этой части.
В Лондоне в 1867 году, когда он был моим путеводителем по британской столице, он тотчас же познакомил меня с тем самым Рольстоном (библиотекарем Британского музея), который один из первых англичан стал писать по русской литературе.