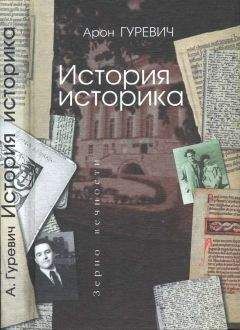Кончается совещание, ко мне подходит Петровский и начинает беседу. И вдруг меня осеняет. «У меня есть друг, — говорю я ему, — датский историк Бент Енсен, который занимается русско- датскими отношениями в XX веке, в частности, датско — советскими отношениями в период Второй мировой войны. Он приехал по договоренности с МИДом работать в вашем архиве, уже десять дней сидит в Москве и жалуется, что разрешения все нет. Вот, — продолжаю я, — мы здесь очень мило поговорили, очень обнадеживающе, но давайте перейдем из области разговоров к поступкам. Докажите, пожалуйста, что вы действительно можете протянуть руку гуманитариям, тогда и мы вам протянем руку». Он говорит своему помощнику: «Займись этим делом». Я ушел, приехал домой, не успел снять плащ, как раздался звонок из МИДа — все улажено. Завтра Бент Енсен будет работать в архиве. Это было время, когда возникла иллюзия, что можно чего‑то добиться. С Петровским мы потом еще встречались, я с ним беседовал о возможностях издания журнала, но дальше разговоров в инстанциях дело не пошло.
Тут я перехожу к другим событиям того времени и моей биографии. Можно создать семинар по исторической антропологии, журнал и даже кафедру, можно составлять какие‑то прожекты. Но что происходит в системе Академии наук? Берем ее устав. В нем написано, что Академию составляют действительные члены и члены- корреспонденты. Все остальные сотни тысяч сотрудников уставом не предусмотрены, нас нет. Я вполне допускаю, что так было в уставе, сочиненном во времена Петра Великого. Академию составляли выдающиеся ученые, русские или немецкие, им помогали служители, которые в ней, естественно, не значились. Но теперь‑то все иначе, и кто же мы такие? От нас иногда толку не больше, чем от тех, кто подметает пол, но все‑таки… Дальше. Кто командует Институтом и наукой? Директор. Откуда он взялся? Он назначается кем‑то, кем именно, мы не знаем. Формально — Президиумом Академии наук, фактически эти вопросы решаются, конечно, на Старой площади, в Отделе науки ЦК. И в Институт «спускают» директора, нравится он нам или нет, специалист он или не специалист, достоин или недостоин. Нас не спрашивают — нас же нет.
Ученый совет назначается директором. Каким образом? Как он хочет или как ему предпишут инстанции, скрытые от нашего взора. Нами помыкают, мы никого не избираем, начальство нам назначают, никакой демократии нет. Раньше я на это не обращал внимания: таков был отравленный воздух, которым мы дышали, и никому в голову не приходило, что можно что‑то изменить. Теперь эти порядки вызывали раздражение, и не только потому, что я думал о нашем бесправии, а и потому, что от этого зависела наша научная жизнь. Кто определяет те проблемы, которые надо обсуждать? Дирекция, Ученый совет, но ведь он назначен дирекцией, и разногласий там быть не может. Кто утверждает исследовательские планы Института? Опять‑таки какая‑то узкая элита, никем не избранная. Кто утверждает или отвергает монографии, подготовленные сотрудниками? И это вне нашего контроля, это делает маленькая кучка лиц, директор и его заместители, может быть, еще заведующий сектором.
Отложив все в сторону, я сунул в свою старую машинку новый лист бумаги и стал писать меморандум директору Института. Я кратко изложил невозможность сохранения прежних порядков, противоречащих велению времени и духу того общества, которое мы силимся сейчас создать, и предложил этот вопрос в той или иной форме поставить на обсуждение коллег. Однако это дело касалось, конечно, не только нашего Института, но Академии наук вообще, вопрос системный. Поэтому, представив меморандум директору и копию его — академику — секретарю Отделения истории, я стал сочинять сокращенный вариант этого документа для предания его гласности через печать. При помощи друзей я обратился к сотрудникам нашего Института и других академических институтов, включая Институт истории СССР, с тем, чтобы собрать подписи под коллективным обращением к президенту Академии наук Марчуку; это удалось сделать. Тогда же был опубликован аналогичный протест сотрудников Института права АН. Наш документ, появившийся в «Литературной газете», пришелся кстати. В Президиуме АН пришлось устроить какое‑то совещание (без нас, конечно), эти документы обсуждали и, кривя губы, признали, что нужно принять во внимание, уточнить, рассмотреть, подчистить, отредактировать руководящие документы и т. д. Дух времени, давление общественности привели к тому, что устав был пересмотрен, и вскоре мы получили право избирать Ученый совет, а также и директора.
Вполне ли адекватны эти реформы потребностям академической жизни, я теперь не знаю. Но все это имело прямые последствия и для Института, и для меня, в частности. Когда я размножил свой меморандум с помощью машинки (в ксерокопировании мне отказали в дирекции) и пустил его по рукам, чтобы все желающие могли прочитать, произошло следующее. Секретарь парторганизации приглашает меня рассмотреть вопрос на заседании партийного бюро. Я пришел, сидят парторги, готовые обсудить мое сочинение и сказать, как обычно: да, конечно, в наших порядках надо кое‑что изменить. Я решил идти на обострение. Не говоря о самом меморандуме, я привел некоторые факты — как выкинули Афанасьева, напомнил историю с Холодковским и др., — доказывающие, что атмосфера в Институте невыносимая, и заявил, что необходимо ее изменить и начать именно с этого, а не с каких‑то административных мер. Это застало моих уважаемых коллег — парторгов врасплох. Они стали говорить: давайте это не обсуждать, ведь речь о меморандуме. Потолковали о нем: да, да, надо подумать, и на этом все кончилось. Затем мне сообщают, что будет открытое партийное собрание Института и меня просят прийти и выступить. Я решил, что, вставши на тропу войны, уклоняться уже нельзя, и явился. В президиуме сидели не только члены дирекции и общественных организаций, но и неизменный завсегдатай таких мероприятий, представитель Отдела науки ЦК. Он молчал, но воплощал партийную линию и тот надзор, который тогда, осенью 1988 года, еще осуществлялся.
Дошла очередь до меня. Я изложил свои тезисы об аморальной атмосфере в Институте, которую необходимо менять; подчеркивал, что вопрос нужно ставить, однако, гораздо шире, и виновников следует искать не только в Институте, хотя и в нем тоже, но и в инстанциях, заботящихся об удушении мысли. Я прямо сказал, что на Старой площади сидят идеологические инквизиторы, которые бдительно следят за нашей деятельностью и пресекают ее, как только возникает подозрение, что есть какая‑то свежая мысль. Я замахнулся, таким образом, на нечто запретное, находящееся уже не в Институте, а совсем по другому адресу.