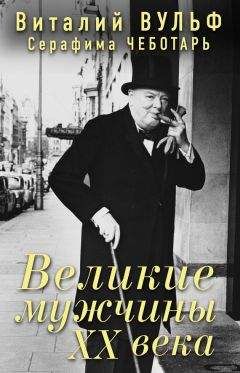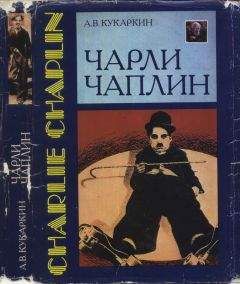Уже через несколько месяцев они обручились. Однако свадьба все откладывалась: Шагалу внезапно стало тесно и в мастерской Бакста, и в Петербурге, и вообще в России. Ему страстно захотелось в Париж, волшебный и недостижимый, – тем более что сам Бакст как раз собирался туда с Русскими сезонами. Собравшись с духом, Шагал попросил мэтра взять его с собой, однако тот отказался. Пребывание в Париже, по его мнению, может лишь повредить Шагалу: его самобытность и уникальность растворятся, столкнувшись со множеством художественных школ, к тому же Шагал просто умрет там с голода!
Оставшись без учителя, Шагал вернулся в Витебск, однако его по-прежнему тянуло в Париж. «У меня было чувство, что если я еще останусь в Витебске, то обрасту шерстью и мхом», – писал он. Но ему повезло: депутат Максим Винавер, известный юрист и меценат, депутат Государственной думы и пропагандист еврейской культуры, поначалу помог ему обустроиться в Петербурге – нашел жилье, купил несколько его картин, а затем выделил средства на поездку во Францию.
До конца жизни Шагал чтил Винавера своим вторым отцом: «Отец родил меня на свет, Винавер сделал из меня художника. Без него я, может быть, застрял бы в Витебске, стал фотографом и никогда бы не узнал Парижа».
Во Франции Шагал оказался в конце 1910 года. Как часто бывает, сбывшаяся мечта оказывается совсем не тем, чем представлялась когда-то: Париж был огромным, чужим и негостеприимным. «Только огромное расстояние, отделявшее мой родной город от Парижа, – писал Шагал, – помешало мне сбежать домой тут же, через неделю или месяц. Я бы с радостью придумал какое-нибудь чрезвычайное событие, чтобы иметь предлог вернуться». Однако парижские музеи, полные прекрасных старинных полотен, галереи с картинами модных художников, прозрачный воздух и необыкновенная яркость красок городских пейзажей покорили Шагала.
Иегуда Пэн. Портрет Марка Шагала. 1914—15 гг.
«Приехав в Париж, я был потрясен переливами света», – вспоминал он. – «Никакая академия не дала бы мне всего того, что я почерпнул, бродя по Парижу, осматривая выставки и музеи, разглядывая витрины». Цвет парижского неба, запах Сены, воздух, насыщенный художественными вибрациями всех жанров и стилей, – все это за несколько месяцев переплавилось в душе Шагала, сделав его самого смелее, а его стиль совершеннее. С тех пор, как он переехал в знаменитый «Улей» – общежитие нищей богемы неподалеку от бульвара Монпарнас, – он оказался в самом эпицентре европейской художественной жизни: рядом с ним жили и творили Робер Делоне и Гийом Аполлинер, Фернан Леже и Макс Жакоб, Блез Сандрар и Амадео Модильяни. Течения и стили, школы и направления кишели вокруг него, как пиявки в старом пруду, а он, учась у них, все же оставался ни на кого не похожим. «Лично я не уверен, что теория – такое уж благо для искусства, – признавался позже Шагал. – Импрессионизм, кубизм – мне равно чужды. По-моему, искусство – это прежде всего состояние души. А душа свята у всех нас, ходящих по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама, стихийно, достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью».
Дни и ночи Шагал просиживал в своей мастерской, рисуя картины – от безденежья – на собственных простынях и рубашках. Друзья-французы были им очарованы: Аполлинер и Сандрар посвящали ему стихи, Сальмон и Жакоб были его друзьями, Андре Бретон назвал его стиль «тотальным лирическим взрывом», а Аполлинер – «сюрнатурализмом». Бакст, навестивший мастерскую бывшего ученика, восторженно заметил: «Теперь ваши краски поют!», а Анатолий Луначарский восхищался его смелыми образами. Однако на парижских выставках картины Шагала поначалу никто не ценил: настолько разительно отличались его лиричные витебские пейзажи и еврейские сюжеты от царивших там французских прудов и соборов или красочных беспредметных полотен. Однако рекомендации друзей делают свое дело: его приглашают на один салон за другим, и постепенно критики и коллекционеры начинают проявлять к нему внимание. Несколько его работ попали с выставкой в Голландию, позже его пригласили принять участие в Осеннем салоне в Берлине.
Взяв все написанные в Париже работы, ранней весной 1914 года Шагал приехал в Берлин, где очарованный его картинами Герхарт Вальден, торговец искусством и меценат, устроил ему выставку в своей галерее Der Sturm: там выставлялись 40 картин и 160 графических листов.
Открыв в середине июня выставку, Шагал отправился в родной Витебск, на свадьбу сестры. Он планировал лишь нанести краткий визит родне, встретиться с Беллой, с которой четыре года общался лишь письмами, и тут же вернуться в Париж, однако разразившаяся мировая война разорвала мир на мелкие кусочки, отрезав Россию от Европы, а Шагала от Парижа.
Поначалу он чувствовал себя в Витебске вернувшимся блудным сыном: все никак не мог ни надышаться, ни налюбоваться родным городом. Он без устали рисовал его заборы и крыши, жителей и коз. И, конечно, Беллу – она тоже казалась обретенной после долгой разлуки святыней. Ее любовь, ее нежность вдохновили Шагала на удивительно проникновенную серию «Влюбленные», признанную одной из вершин его творчества. Хотя Розенфельдам, владельцам нескольких ювелирных магазинов, категорически не нравился нищий художник Марк, сын рабочего в лавке, Белла все-таки смогла настоять на своем: 15 июля 1915 года они с Марком Шагалом стали мужем и женой. После свадьбы молодожены провели в деревне полтора месяца: «У нас был не только медовый, но и молочный месяц», – вспоминал Шагал. Их дочь Ида родилась 18 мая 1916 года.
Марк Шагал. Над городом. 1914–1918 гг.
Казалось, у него было все для счастья: обожаемая жена, любимое дело, признание критики – Шагал принимал участие во многих выставках, коллекционеры раскупают его работы, а искусствоведы признают его одним из крупнейших художников того времени. Однако душа Шагала по-прежнему рвется в Париж, где яркий свет, сладкий воздух и в небе, вместо коз и коров, летают ласточки. Но все его попытки покинуть Россию закончились провалом. И Шагал решился переехать хотя бы в Петербург, уже называвшийся Петроградом.
Две революции принесли Шагалу освобождение: во-первых, перестали существовать все ограничения, связанные с верой или национальностью, а с другой – пафос обновления, которым был пронизан воздух страны, оказался удивительно созвучен Шагалу. К тому же его прежний знакомый Луначарский оказался наркомом просвещения: он даже собирался организовать наркомат по делам культуры, где Маяковский бы руководил отделом поэзии, Мейерхольд – отделом театра и Шагал – изобразительным искусством. Однако Белла была решительно против того, чтобы ее муж влезал в политику: по ее настоянию Шагал, получив от Луначарского мандат уполномоченного по делам искусства Витебской губернии, вернулся в родной город.