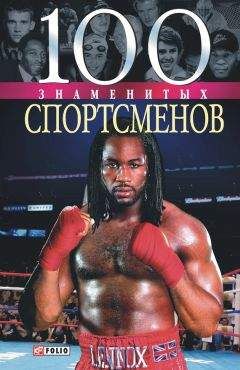- Не надо, - говорит Зубихин. - Я все основное переписал.
И он начинает читать из середины реферата: "Надо, чтобы каждый человек разделил тетрадную страницу пополам и слева писал, в чем он свободен, а справа - в чем не свободен, что мешает его свободе, и, поверьте, эта тетрадка будет интересней любого самого значительного романа. А если потом изобретут машину (а вероятно, ее уже изобрели, потому что изобретена же машина, решающая задачу о точке встречи!), и если вложат все эти данные из всех разграфленных тетрадок, взятых от всего человечества, в эту новую машину, то будет решена задача об идеальном обществе, где все по возможности свободны. Разумеется, нормальные люди. Психов мы в расчет не берем".
- А что? Интересно, - говорит Сталин. - Но ведь это не ваша мысль, поворачивается он к лейтенанту. - Это все переписано из Толстого.
- Так точно, - отвечает Курчев, даже не успев обидеться, что ему отказано в приоритете. - Я просто взял и переписал.
- Толстой - великий писатель и у него можно переписывать, - говорит Сталин и грозно смотрит на Зубихина.
- Нет, - отвечает особист, который уже, собственно, не особист, а, во-видимому, член Политбюро или, как теперь называется, Президиума, потому что на нем тужурка без погон. - Нет, Курчев, - повторяет Зубихин. - Толстой этого не сочинял и не выдавал военной тайны о точке встречи. При Толстом не было еще точки встречи.
- Но точка встречи в учебнике есть, - мямлит лейтенант, чувствуя, что ему уже никогда не выскочить отсюда и не увидеться с аспиранткой.
- Но учебник-то военный, - не унимается Зубихин.
- Ничего, мы разберемся, - говорит Сталин и тут становится жутко похожим на свой плакат под названием: "И засуху одолеем!", где он изображен с карандашом в руке над картой Советского Союза с лесозащитными полосами.
- Идите, лейтенант, - говорит Сталин Борису и уже не подставляет щеки. Курчев козыряет, хотя на нем нет головного убора, и идет по узкому долгому бетонному коридору; сначала идет, потом бежит, потом несется, как на последней дистанции кросса, и вдруг без сил падает на бетонный мокрый пол... и просыпается на топчане.
В комнате нечем дышать. Курчев поднимается с постели и только последним усилием воли не распахивает окна. Но дышать все-таки нечем. Он подходит к шкафу, открывает дверку и вытаскивает из поллитровки пробку. Водка в шкафу согрелась и он, морщась, делает всего два глотка.
Сидя среди ночи на сколоченном матрасе и стараясь отогнать мысли о приснившемся Зубихине, Курчев думает об аспирантке. Его удивляет, что эта женщина так близко, и он, хотя времени лишь начало пятого, достает из чемодана чистую пару белья и вторые синие бриджи, что меньше вытерлись на заду и коленях.
"Был бы апрель", - вздыхает о венгерском костюме, легком пальто и черных полуботинках.
"Не страдай. Так тоже сойдет", - тут же перебил себя, влез в шинель и перекрещивается ремнём.
"Интересно, покорежила она малявку? - улыбается, потому что на самом деле ему приятно, что Инга печатает на его машинке фирмы "гермес-бэби", купленной каким-то чудом год назад в комиссионке на Колхозной. На "малявку" были ухлопаны полторы тыщи подъемных. Но лейтенант не пожалел бы и двух, даже трех, благо в прошлом году деньги были.
Он навешивает замок и выходит через притихший дворик на улицу. Переяславка темна. Только над крышами домов небо светлее, словно его, как стекло, протерли тряпкой. Оттуда же раздаются короткие гудки и частое шипение паровозов.
"Машинистов", - улыбнулся лейтенант, вспоминая, что так его называли в детстве. И вдруг, как живого, увидел пьяного отца в доме у бабки. Отец сидел за большим столом напротив шурина, инженера Сеничкина и, запустив ладонь в длинные вихры (к нему-то шла фамилия Курчев!), мотал вместе с ладонью опущенной по-бычьи головой и доказывал дядьке Василию:
- Я механик! Понимаешь, механик я. Это я до войны (он имел в виду первую империалистическую) перчатки носил и на извозчике в депо ездил. Соображаешь?! У меня дети в гимназию ходили...
- Сейчас не хуже, - хмуро отвечал дядька, который с удовольствием бы выгнал из материнского дома некстати пожаловавшего гостя.
- Хрен, не хуже. У меня бы кухарка была и квартира в пять комнат.
- Не пей, - просила мать. - Ну, Кузя, - тут же сказала потише, потому что отец повернул к ней голову и в глазах у него не было ни капли нежности, а лишь презрение и злоба. - Ну, прошу, Кузенька, - отвернулась мать. Она боялась отца и безнадежно его любила, а он ее не выносил.
- Посадят тебя, Кузька, - сказала бабка. Отец злобно поглядел на тещу, но ничего не сказал и налил себе и дяде Василию.
- Иди сюда, Борис, - поманил сына. - В гимназию хочешь?
Он посадил мальчишку на колени, погладил по голове, а когда выпил стопку, прижался щекой к затылку сына - и сейчас, через семнадцать лет, лейтенант помнил эту щеку и этот запах портвейна, смешанный с запахом машинного масла, дыма и металла. В то лето отца за пьянство списали из паровозной бригады и он слесарил в депо.
"Хорошо, что рядом дорога", - подумал лейтенант, спускаясь по спящей, почти черной улице. Ему хотелось еще что-нибудь вспомнить об отце, но другие воспоминания не приходили, а сапоги, весело стуча подковками по очищенному от снега тротуару, тащили его в сторону от железной дороги в горбатый Докучаев переулок.
"Я не знаю ее окна, - подумал лейтенант. - А может, она не спит и тарахтит на малявке?"
"Да что она, Сталин, что ли?" - улыбнулся самому себе. Но едва свернув с Переяславки на тоже тихую, спящую Домниковку, он почувствовал ту же неловкость, что три с лишним недели назад в доме Сеничкиных, когда аспирантка протянула ему свою тонкую и длинную ладонь, а он испугался, что она учует, как у него вспотела спина. Тогда, в феврале, он сутки перед этим был в наряде, а сейчас он спал раздевшись и вряд ли в нем остался какой-нибудь запах, кроме запаха разведенного клея. Но ему все равно было не по себе, и он не вошел в Докучаев переулок. Женщина Инга была мечта, а к мечте нехорошо примешивать посторонние запахи. Он прошел дальше по Домниковке, пересек еще довольно пустынное Садовое кольцо и вошел в тихий длинный узкий уютный переулок с высокими домами, в которых кое-где уже светились окна.
Он дошел до центра. Бани были закрыты и больше часу он ходил по просыпающимся бульварам, где на холоду трусили редкие прохожие в штатском, при встрече с которыми не надо было тянуть руку к ушанке.
Горячая вода вместе с куском купленного в киоске банного мыла сняла с души и тела неприятные воспоминания, и выйдя из мыльни в предбанник, Курчев чувствовал себя очищенным для великой любви, как прошедший санпропускник новобранец ощущает себя готовым для действительной службы.