И все же они видят — можно работать и иначе. Вот первый урок, пусть еще пока до конца не осознанный, который получили Брюлловы в путешествии. А новые впечатления постоянно заставляли повторять этот урок вновь и вновь. В Мюнхене братья были потрясены невиданной доселе архитектурой средневековой готики, величественной и возвышенной. Она была так непривычна взгляду, воспитанному на ампире Петербурга! Прибыв в Мюнхен в 4 утра, они, едва дождавшись рассвета, отправились бродить по городу, который «сделал» на них такое сильное впечатление, что они были «расположены в Мюнхене видеть все хорошими глазами». Они решили задержаться здесь подольше, да и внезапная болезнь Карла вынудила к этому. Устроившись в доме обер-лейтенанта фон дер Вельца — «люди очень хорошие, мы не могли бы жить дома беспечнее», — братья прожили тут до апреля 1823 года. Вскоре судьба свела их с бароном Хорнстейном, шестидесятилетним здоровяком, которого они характеризуют как человека, умеющего быть «деятельным, ничего не делая». Он доставил им знакомство почти со всеми мюнхенскими художниками, ввел в общество, так что, когда пришло время карнавала — от рождества до последнего дня масленицы, — братья могли свободно посещать все три городских клуба, побывать на всех заметных городских балах. Барон Хорнстейн был первым, с кого Карл написал в Мюнхене портрет. Заказчик был предоволен, отнес портрет во дворец, показал министрам и членам королевской семьи. Министр финансов тотчас заказал Брюллову портрет дочери, министр внутренних дел — свой и жены. С мальчишеской гордостью Карл пишет родителям, что «королевская фамилия была очень довольна, и если бы не отъезд короля и всей фамилии в Дрезден, то, может быть, мне пришлось бы писать их всех».
Надо сказать, что кроме портретов и рисунков в натурном классе Мюнхенской Академии — братья получили разрешение работать там ежевечерне — Карл во все девять месяцев путешествия больше ничего и не рисует, в его альбомах полностью отсутствуют путевые наброски. Так много нового дарил каждый день, что браться за карандаш недоставало времени. С началом весны братья продолжили путешествие. Через Инсбрук, Боцен, Триент, Бассано, Тревизо они прибыли в Венецию. В Мюнхене в день отъезда было по-весеннему солнечно, в горах Тироля они словно по волшебству вернулись в снежную зиму. А в Венеции их ждало во всем сияющем великолепии яркое южное лето. Неделя, проведенная в этом чудо-городе, осталась в памяти навсегда. Тут они впервые оценили достоинства Тинторетто, Веронезе и особенно Тициана. Тициановский «образ письма прекрасен, а краски — непостижимы», — восклицает с восторгом Карл. Сама Венеция — изумительно красива. Вид с лагуны на город с его сверкающими куполами и башнями представляет собою пленительный архитектурный мираж. Город словно встает из вод. Да так оно и есть — его безмолвные улицы будто вымощены водою.
Несмотря на скудость средств, невозможно удержаться от соблазна разориться на гондольера. И вот они уже в длинной, задрапированной черным и покрытой черным лаком, устланной серыми коврами гондоле. Гондольер, взявшись за весло, преобразился, — словно сегодняшние заботы спали с него. И вот он запел. Протяжные стихи, положенные на распевную музыку, сходную с церковной, полились над гладью вод. Едва он умолк — ему ответил другой. Только потом братья узнали, что первый начал стих из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо, а другой ответил ему следующей строфой. Вдоль канала — ряды пирамидальных тополей, единственная растительность Венеции. Небесная синева, зелень воды, чернота гондолы так ослепительно ярки, точно покрыты свежим лаком. Здесь все насыщенно, нет таинственной игры полутонов. Оттого что в городе сообщаться можно только по воде, люди живут уединенно, можно встретить обывателей, которые ни разу в жизни не были в соседнем квартале, никогда не видели площади Св. Марка, которым лошадь или корова показались бы чудом… На набережной Скьявони братья были захвачены всеобщим возбуждением: тут и театры марионеток, и торговцы целебными снадобьями, и, самое удивительное, — сказочники. Вот сидит один из них в кружке слушателей. На свой манер, простонародным языком рассказывает он эпизоды из поэм Тассо. Он то неистов, то величаво спокоен — актер и соавтор поэта сразу. Иногда ему подносят стакан воды, что здесь дороже вина, и он продолжает свое представление.
Братья не только любуются Венецией — они размышляют. Отмечают, что «каждое местечко» в Венеции говорит о прошедшей славе и богатстве и нынешней бедности. С горечью пишут, что время венецианской республики ушло безвозвратно. В высказываниях Брюлловых о Венеции, как и потом, в описаниях римского быта, римских карнавалов, есть немало мест, свидетельствующих о том, что увидеть Италию помогала им мадам де Сталь — они явно читали ее «Коринну». Да и кто тогда в России не читал ее! Эта книга вышла в русском переводе в 1809 году. «В блестящем вымысле Коринны нашел я верные картины», — так говорил Пушкин, выражая мысли многих русских. В России имя Коринны стало нарицательным для женщин одаренных, с возвышенной душой. «Северной Коринной» называли Зинаиду Волконскую, с которой братья так близко сойдутся в Риме. В «Коринне» де Сталь пишет об Италии, находившейся тогда в плачевном состоянии, с верой в то, что в ней жив вольнолюбивый дух великого народа. Именно поэтому, как скоро узнает Карл, имя де Сталь было начертано на знаменах деятелей итальянского освободительного движения — Рисорджименто. Мы увидим, что Брюллов, чутко улавливавший веяния времени, тоже приобщится к этим идеям. Это станет залогом всеобщего признания его «Помпеи» именно итальянцами…
Расставшись с Венецией, Карл и Александр через Падую, Виченцу, Верону, Мантую, Болонью направились во Флоренцию. С холма Фьезоле открылась перед ними Флоренция. Казалось, кто-то обсыпал ее мелкой сероватой пылью, обесцветив красный ковер черепичных кровель. Над ними четко рисовался купол собора и горделиво взлетающая к небу башня Синьории. Флорентийские музеи превзошли все ожидания. Братья не устают восхищаться творениями Рафаэля, Тициана, Леонардо, подлинниками античных статуй. Меньше всего восторгов достается Микеланджело. Этот титан Возрождения дальше всех своих прославленных современников ушел от античных образцов. В глазах выпускников Петербургской Академии художеств он слишком несдержан, кипуч, неуемен. Его герои не отличаются классической красотой, в них живет бунтарская душа, им чуждо спокойствие. Когда он обращается к сюжетам из Библии, так хорошо знакомым братьям, он воссоздает их совсем не так, как учили Брюлловых в Академии. Ветхозаветные Моисей или Давид скорей напоминают богов языческих, какого-нибудь Юпитера, так щедро наделены они грозным и властным выражением. Тут же, во Флорентийском музее, юноши долго стоят перед Ниобеей. Вот что их привлекает здесь, в отличие от творений Микеланджело: скорбь и отчаяние выражены в античной статуе спокойно и достойно, в выражении ужаса сохранена красота, здесь поражает не столько страдание Ниобеи, сколько непоколебимая сила духа несчастной матери, потерявшей по воле богов всех своих прекрасных детей. Это впечатление оживет в душе Карла, когда он будет создавать образы своей «Помпеи».
В музеях Флоренции братья были покорены не только экспонатами, но и действующими поныне республиканскими порядками: музеи открыты для обозрения в любое время дня. И поныне, оказывается, народ Флоренции высоко чтит искусство — в залах они видели простолюдинов, охотно бравших на себя роль бесплатных гидов. Побывали путешественники и в церкви Санта-Кроче — тут и знаменитая гробница Микеланджело, и самое блестящее собрание великих усопших — Галилей, Макиавелли, Боккаччо…
2 мая 1823 года Брюлловы приблизились к Риму. Еще города не видно, а гигантский купол собора св. Петра ясно различим. Постепенно весь город, серо-коричневый, разбежавшийся по всем семи холмам бесчисленными зданиями, возник перед глазами.
Братья, после начальных неудач с поиском жилья, поселились очень удобно — на холме Квиринале, в угловом доме, открытом на все четыре стороны. В одни окна глядели Альбанские горы с рассеянными тут и там белыми городками, в другие — Сабинские с белыми снеговыми шапками на вершинах. С третьей стороны вверх по холму вздымались улицы, туда, где вдали высился собор св. Петра. И со стороны четвертой виден был старый Рим с Колизеем. Колизей, «хотя и разрушенный, но прекрасный, заставляет забыть все окружающее, чтобы смотреть на него», — пишет Александр домашним. Дом их был отделен от жилища папы невысокой стеной и проулком. Роскошный панский сад с деревьями, усыпанными апельсинами, и ярко-зеленой, ухоженной травой был как на ладони. Это зрелище «заставляет нас забыть, что уже январь месяц; но холод, который как бы не могши найти места на улицах, теснится в дома, очень дает нам чувствовать, что наступили святки…»
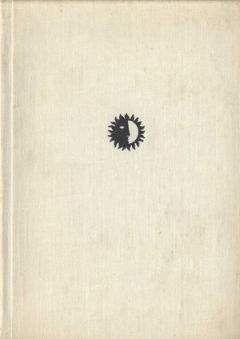

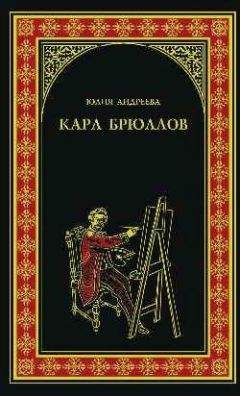
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
