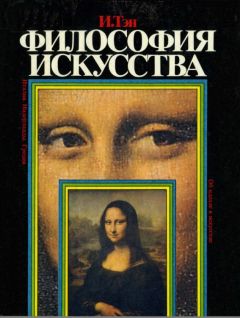Люди входят сюда с печалью в душе и выносят отсюда самые безотрадные мысли. Они думают об этой презренной жизни, полной треволнений и стоящей на краю бездны, об аде и его безмерных и бесконечных муках, о страданиях Иисуса Христа, умирающего на кресте, о святых мучениках, истязаемых гонителями. Под такими религиозными впечатлениями и под тяжестью своих собственных страхов им не живется с весельем и простою красотой дня; они не пропускают к себе ясного, здорового света. Внутренность здания погружена в суровый и холодный полумрак; дневной свет доходит сюда лишь сквозь расписные стекла, с кроваво-пурпурным колоритом, в блеске аметистов и топазов, в таинственном сиянии драгоценных камней, в причудливой игре, как бы раскрывающей райскую обитель.
Изнеженное и распаленное воображение этих людей не довольствуется обыкновенными формами. Да и форма сама по себе недостаточна, чтобы заинтересовать их: она должна быть символом, должна обозначать собой какое-нибудь высшее таинство. Здание, своими перекрещивающимися частями, изображает крест, на котором был распят Христос; розетки с их алмазными лепестками представляют вечную розу, а листья ее — души искупленных; размеры всех частей храма соответствуют разным священным числам. С другой стороны, формы, по своему богатству, своей странности, смелости, нежности, громадности, как нельзя более гармонируют с непомерностью и пытливостью болезненной фантазии. Таким душам нужны ощущения живые, обильные, изменчивые, крайние и причудливые. Им не по нраву колонна, горизонтальная поперечина и простая дуга — короче, простая устойчивость, строгая соразмерность, изящная нагота древней архитектуры. Они не сочувствуют этим могучим существам, родившимся, по-видимому, без труда и живущим без особых усилий, которые получают красоту вместе с жизнью и основное превосходство которых не нуждается ни в дополнениях, ни в прикрасах.
Они избирают типом не простой овал арки или не простой квадрат, образуемый колонною и архитравом, но сложное соединение двух взаимно пересекающихся дуг, составляющих так называемую стрелку. Они стремятся к гигантскому, покрывают четверть мили своими каменными громадами, громоздят колонны в чудовищные столпы, строят воздушные галереи, возводят своды чуть не до небес и наносят колокольню на колокольню, так что вершины их теряются в облаках. Они преувеличивают нежность форм, пускают вокруг порталов несколько фигур, украшают выкладку стен фестонами из трилистника, шпицами и чудовищными образами, перевивают изгибы оконных середников пестрым пурпуром розеток, убирают узорами клирос, как кружево, гробницы, алтари, переходы, башни опутывают вереницей миниатюрных колонн, многосложных свитков, листвы и статуй. Казалось, они хотят достигнуть, в одно и то же время, бесконечно великого и бесконечно малого, поразить умы с двух сторон вместе — и громадностью массы, и неистощимым обилием мелочей. Очевидно, они поставили себе целью произвести необыкновенное впечатление — изумить и тут же ослепить зрителя.
Зато по мере развития своего эта архитектура становится все более и более парадоксальной. В XIV и XV столетиях, в эпоху так называемой ’’яркой” готики, в Страсбурге, Милане, Йорке, Нюрнберге, в церкви города Броу архитектура эта, казалось, пренебрегает прочностью построек и всецело отдается наружным украшениям. Вы видите то множество колоколен, нагроможденных одна на другую, то кружева резьбы, которыми убран весь фасад. Наружные стены почти целиком сквозят окнами; настоящей опоры, собственно, нет: без контрфорсов, которыми подперты стены, здание бы рухнуло; оно непрерывно крошится, и целые колонии камнетесов, поселенные у его подножия, постоянно исправляют его постоянное разрушение. Эта каменная резьба насквозь, которая, все более утончаясь, доходит до самой стрелки, не в состоянии держаться сама собою; ее нужно было прикрепить к прочной железной оправе, а ржавеющее железо требует опять руки работника, чтобы поддерживать хрупкость этого мнимого великолепия. Мелкая отделка внутренних украшений до того усложнилась, стрелки свода так роскошно убрались своей хвойной и вьющейся растительностью, церковные скамьи, кафедра и решетки пестреют таким богатством арабесков, фантастически перепутывающихся и расходящихся, что вся церковь представляется не зданием, но какой-то чудной вещицей ювелирного искусства. Это — разноцветный фонарь, гигантская филигранная работа, праздничный убор, отделанный с такой же тщательностью, как убор царицы или невесты. Но это наряд нервной, прихотливой женщины, подобный причудливым костюмам того времени: изнеженная и нездоровая поэзия его своею крайностью указывает на странность чувства, на беспокойное вдохновение, на пылкие и бессильные порывы, свойственные эпохе монахов и рыцарей.
Эта архитектура, господствовавшая четыре столетия, не ограничивалась одной какой-нибудь страной или одним каким-либо родом зданий; она распространилась по всей Европе, от Шотландии до Сицилии, и строила всякого рода здания: гражданские и религиозные, частные и общественные; характерные черты ее вы встретите не только в соборах и часовнях, но также в крепостях и дворцах, в одежде и домах мещан, в мебели и других принадлежностях обиходной жизни. Таким образом, своей повсеместностью она громко свидетельствует о великом нравственном переломе, болезненном и вместе высоком, который в течение всех средних веков волновал и сбивал с пути людской дух.
VII
Французская цивилизация XVI столетия и классическая трагедия. Образование стройных монархий. — Феодальные бароны становятся придворными. — Значение придворных того времени. — Центр придворной жизни сосредоточивается при Людовике XIV во Франции.
Образцовым человеком считается знатный придворный, вельможа. — Характеристика его. — Надменность, храбрость, верность. — Вежливость, светский обычай, ловкость.
Эти характеристические черты соответствуют господствующим в то время вкусам. — Повсеместное стремление к правильности и благородству. — Живопись. — Стиль писателей. — Трагедия. — Смягчение грубой истины. — Правильность сочинения. — Витиеватость слога. — Все действующие лица — люди придворные. — Аристократические чувства и поклонение приличиям света. — Значение французской трагедии для всей Европы.
Человеческие учреждения, точно так же, как и живые тела, являются и исчезают вследствие собственной своей силы, и болезненное состояние, равно как и выздоровление их, бывает единственно результатом их природы и их положения. Между феодальными владельцами, управлявшими и эксплуатировавшими человечество в средние века, в каждой стране нашелся один, оказавшийся более сильным, в лучшем положении и лучшим политиком, чем другие, и ставший защитником общественного спокойствия. Поддерживаемый всеобщим одобрением, он ослабил, собрал воедино, покорил или подчинил себе постепенно всех остальных, учредил правильную и послушную ему администрацию и, под именем короля, сделался главой народа. К концу XV столетия бароны, некогда равные ему, стали только его сановниками; к концу XVII века они были уже лишь его придворные.
Взвесьте хорошенько значение этого слова. Царедворец — это человек, состоящий при дворе, т. е. человек, исполняющий какую-нибудь службу или домашнюю должность во дворце, главный конюший, камергер, обер-егермейстер, получающий за это деньги и говорящий со своим властелином в самом льстиво-почтительном тоне, со всевозможными униженными поклонами, подобающими его званию. Но он далеко не такой простой слуга, как это бывает в восточных монархиях. Прапрадед его прапрадеда был ровней, сотоварищем, пэром, т. е. четою королю; вследствие этого сам он принадлежит к привилегированному классу, к классу дворян; поэтому и государям своим он служит не ради одних лишь интересов; преданность им ставит он себе в особенную честь. Со своей стороны государи не забывают относиться к нему с полным уважением. Людовик XIV выбросил свою трость за окно, чтобы только не ударить ею провинившегося перед ним Лозена. Царедворец в почете у своих владык; они обходятся с ним как с человеком своего круга; живет он с ними на короткой ноге, танцует на их балах, обедает у них за столом, имеет место в их экипаже, садится в их кресла, составляет их общество. На таких основаниях возникает придворная жизнь сперва в Италии и Испании, затем во Франции и, наконец, в Англии, Германии и на севере Европы. Средоточием этой жизни является Франция, а самым блестящим ее временем — эпоха Людовика XIV.
Проследим влияния этого нового порядка вещей на характеры, умы и нравы. Гостиная короля является первой в стране; поэтому в ней собирается самое избранное общество; и понятно, что все восхищаются здесь, как человеком в полном значении этого слова, как образцом для всего общества, тем знатным вельможей, который стоит на короткой ноге с королем. Вельможа этот отличается великодушием. Он считает себя принадлежащим к высшей породе людей и убежден, что дворянство налагает на него известные обязанности — noblesse oblige[15]. Он чрезвычайно щекотлив в вопросах чести и, не думая долго, готов пожертвовать жизнью из-за малейшего оскорбления; в царствование Людовика XIII насчитывали четыре тысячи дворян, убитых на дуэли. В глазах дворянина презрение к опасности составляет первый долг благородного человека. Этот щеголь, этот великосветский господин, так тщательно оглядывающий свои ленты, столь заботливый к своему парику, с полной готовностью предается лагерной жизни где-нибудь в болотах Фландрии, по десяти часов кряду неподвижно стоит под ядрами при Неэрвиндене; когда маршал Люксембург возвещает близость битвы, Версаль мгновенно пустеет, и все разряженные франты спешат на войну, как на бал. Наконец, в силу остатков прежнего феодального духа наш вельможа считает монарха своим естественным и законным главой; ему известно, что он подчинен королю, как некогда вассал своему властелину; в случае надобности он пожертвует для него своим имуществом, кровью и жизнью; при Людовике XVI дворяне охотно шли в волонтеры к королю и многие из них пали за него 10 августа.