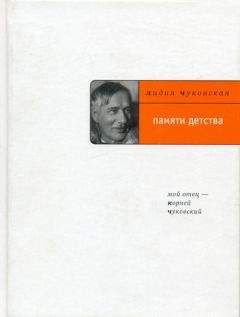И как бы Репин ни уверял, что «проповедь» в живописи ему ненавистна, только «проповедуя», он становился великим художником.
Ему нужно было увлечься сюжетом, тем, что он пишет, — и тогда приходило к нему вдохновенное как.
Возьмите хотя бы его «Бурлаков». Конечно, он о многом забыл, когда рассказывал в «Далеком близком», будто во время писания этой картины ни о какой эксплуатации бурлаков и не думал. Он забыл, что первоисточником здесь было то самое «гражданское чувство», которое в пору разрыва со Стасовым казалось ему помехой для творчества. Ведь как эта картина возникла? Он поехал со своими товарищами за город, на пароходе по Неве, и вдруг на берегу, среди празднично веселящейся публики, увидел в качестве живого контраста идущих бечевой бурлаков. Как подействовало на него это зрелище, он описал в своей книге:
«Приблизились. О боже, зачем же они такие грязные, оборванные? У одного разорванная штанина по земле волочится и голое колено сверкает, у других локти повылезли, некоторые без шапок; рубахи-то, рубахи! Истлевшие — не узнать розового ситца, висящего на них полосами, и не разобрать даже ни цвета, ни материи, из которой они сделаны. Вот лохмотья! Влегшие в лямку груди обтерлись докрасна, оголились и побурели от загара… Лица угрюмые, иногда только сверкнет тяжелый взгляд из-под пряди сбившихся висячих волос, лица потные блестят, и рубахи насквозь потемнели… Вот контраст с этим чистым ароматным цветником господ!»[82]
Таков был первоисточник знаменитой картины: живое и непосредственное «гражданское чувство», ненависть к тем социальным условиям, которые довели подъяремных людей до положения вьючного скота. Потом это чувство могло и забыться, но оно было первичным и наиболее сильным.
Так что Репин должен был позабыть очень многое, чтобы сказать, будто он оставался вполне равнодушен к тяготам бурлацкого быта.
К подобному равнодушию он вообще никогда не был склонен. Даже в Италии, где все остальные художники спокон веку восхищались красотами, Репин, чуть только приехал туда, отыскал таких же бурлаков, таких же задавленных тяжелой, непосильной работой людей.
«Мы привыкли думать, что итальянцы ничего не делают, воспевая dolce far niente (сладостное безделье. — К. Ч.), об угнетении народа в этих странах якобы и помину нет… — писал Репин Крамскому в 1873 году. — Четыре человека несут громадную бочку вина, перетянув ее какими-то отрепками, жара, на гору, пот в три ручья; нам страшно глядеть… (то есть те же „Бурлаки“! та же тема! — К. Ч.), однако же все равнодушно проходят, не обратив ни малейшего внимания. Погонщики ослов в Кастеламара… поспевают бегать наравне с лошадьми, целые десятки верст… сопровождая господ, пожелавших сделать прогулку верхами…»[83].
Академия художеств послала его сюда восхищаться «примечательностями» итальянской живописи, итальянской природы, но никакие «примечательности» не могли скрыть от него:
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.
А. Блок
Это было главное, что он увидел в ту пору в Италии — таких же бурлаков, которые тянут такую же лямку.
«…В самом деле, — писал он Крамскому, — мы едем сюда искать идеального порядка жизни, свободы, гражданства, и вдруг в Вене, например, один тщедушный человек везет на тачке пудов тридцать багажа, везет через весь город. (Знаете венские концы?) Он уже снял сюртук, хотя довольно холодно, руки его дрожат, и вся рубашка мокра, волосы мокры, он и шапку снял… лошади дороги»[84].
Словом, Репин всюду находил бурлаков — и в России, и в Италии, и в Австрии.
Всюду тяжесть чужой работы ощущалась им так, будто эта работа лежит на плечах у него самого, будто он сам несет в гору громадную бочку, будто он сам, заменяя лошадь, везет в тачке через всю Вену тридцатипудовые грузы, и эта повышенная чувствительность к тяжести чужого бремени, чужого труда сделала его Репиным.
Она-то и дала ему тему его «Бурлаков».
Но он часто не замечал в себе этого качества и упрямо считал себя во власти одного эстетизма.
У него всегда была иллюзия, будто форма и содержание — две несовместимые категории искусства, будто художники делятся на два враждующих лагеря — на общественников и эстетов — и будто примирение между ними невозможно ни при каких обстоятельствах.
Одни служат красоте, а другие — морали.
И себя он причислял то к одному лагерю, то к другому, не постигая, что как художник он сразу в обоих и что в этом его главная сила. Действенность его произведений именно в этом нерасторжимом единстве тематики и мастерства.
Ему же всю жизнь чудилось, что перед ним ультиматум: либо высокая техника, высокое качество живописи, либо густая насыщенность социальными темами, дидактика, литературщина, публицистика.
Либо — либо.
Два полюса.
И он во всех своих высказываниях о целях и задачах искусства попеременно метался между тем и другим. Попеременно чувствовал себя то чистым эстетом, то бойцом за искусство идейное. И примирить этого противоречия не мог. То есть он отлично примирял его в творчестве, но в теории, в истолковании искусства он занимал то одну, то другую позицию, меняя эти вехи беспрестанно, иногда на протяжении недели.
В 1916 году, в феврале, мы стояли с ним в Русском музее перед брюлловской «Помпеей». Он влюбленно и страстно смотрел на нее, восхищаясь ее блистательной техникой, а потом отошел к дверям, отвернулся от обступившей его толпы ротозеев и заплакал — заплакал от восхищения искусством Брюллова. И когда мы шли из музея, говорил, что в искусстве для него главное — пластика, очарование большого мастерства.
И я вспомнил, что лет за пять до этого мы вместе с ним и художником Бродским осматривали гельсингфорский музей «Атенеум» и он точно так же прослезился перед холстом Эдельфельда, изображавшим горько плачущую деревенскую девушку.
Репин с нежностью глядел на нее и сказал таким участливым голосом, какого я не слыхал у него ни раньше, ни после: «Бедная!»
И глаза у него сделались мокрые.
И когда мы шли из музея, он долго говорил нам о том, что в искусстве главное не техника, не мастерство, а человечность, любовь, сострадание.
Тут, в этих двух эпизодах, два разных, диаметрально противоположных отношения к живописи.
И, помню, я тогда же подумал, что Репин-художник начинается там, где культ красоты органически слит с горячим участием в борьбе за социальную правду.
Строгий к себе и своему дарованию, он ненавидел лесть и похвалы. Показывая в Пенатах приезжим гостям какую-нибудь из своих новых картин, он с досадой прерывал излияния восторгов:
— Нет, вы скажите мне, что в ней плохого!
И чуть было не расцеловал художника Л. О. Пастернака[85] когда тот с обычной своей прямотой сделал несколько критических замечаний о незаконченной его картине «Пушкин на экзамене».
Репин долго вспоминал с благодарностью: «Спасибо ему, он мне во многом помог».
Когда я редактировал рукопись его мемуаров, впоследствии вошедших в его книгу «Далекое близкое», я считал своим редакторским долгом напрямик, без всяких околичностей, высказывать ему свое редакторское мнение о них, и, хотя порой это выходило у меня грубовато, Репин не раз поощрял меня к таким резким высказываниям.
«Я люблю Ваши замечания, если они едки и колки до обидности», — писал он, посылая мне свою новую рукопись.
И в другом письме по поводу своих корректур:
«Интересно Ваше острое и беспощадное мнение».
Сохранилось изумительное письмо Ильи Ефимовича к Стасову, где он резко упрекает знаменитого критика за излишние хвалы его таланту. Стасов в газетной статье восторженно приветствовал какое-то новое произведение Репина. Репин прочитал — и рассердился.
«А обо мне, знаете, мне даже обидно: что это Вы? Вы знаете, как я Вам верю и ценю Вашу правду!!!.. И вдруг я подумал: „что, если он начал стареть и всем хочет на закуску по конфетке подносить“? Ох, я видел уже накануне, как Вы кривите душою пред Ге. Что, если и мне Вы начинаете подслащивать? Ради бога, бросьте эту манеру — я ее ненавижу!.. Вас я люблю беспощадного, правдивого, могучего, такой Вы и есть…» [86].
Еще раньше он писал тому же Стасову:
«А рисунки мои Вы, пожалуйста, так не хвалите, а то я к Вам доверие потеряю, — можно ли хвалить такую дрянь?»
И о другом своем рисунке ему же:
«Вчера я хотел было взять [его] к Вам, да раздумал, он мне плохим кажется. Ведь это только полупомешанный Егоров хотел купить его у меня… я его образумил, конечно…»
И таков Репин был всегда.
Когда он написал портрет М. П. Мусоргского, Стасов приветствовал в пылкой статье это новое торжество русской живописи.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)