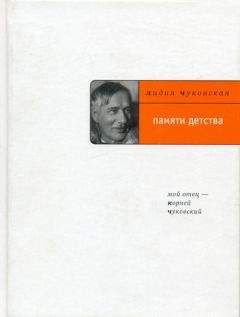Еще раньше он писал тому же Стасову:
«А рисунки мои Вы, пожалуйста, так не хвалите, а то я к Вам доверие потеряю, — можно ли хвалить такую дрянь?»
И о другом своем рисунке ему же:
«Вчера я хотел было взять [его] к Вам, да раздумал, он мне плохим кажется. Ведь это только полупомешанный Егоров хотел купить его у меня… я его образумил, конечно…»
И таков Репин был всегда.
Когда он написал портрет М. П. Мусоргского, Стасов приветствовал в пылкой статье это новое торжество русской живописи.
С тех пор прошло около девяноста лет, и каждое новое поколение зрителей присоединяется к восторженному отзыву Стасова. Ни йоты преувеличения в этом отзыве не было.
Но Репин рассердился и тут.
«…Мне эта статья не понравилась, — писал он Стасову в суровом письме, — она похожа на рекламу (?!), страдает преувеличенностью и сильным пристрастием».
Нельзя представить себе другого художника, который написал бы такое письмо влиятельному и неподкупно правдивому критику, выражающему свой восторг перед его дарованием.
Не похвал, а правды требовал Репин от критики.
В том письме, которое я цитировал выше, Илья Ефимович говорит, что его творческий труд доставляет ему то «радости до счастья», то «горести до смерти». Радости были, несомненно, огромны, радости мастера, полнокровно воплощающего в образах заветные мысли и чувства, но он переживал свое счастье незримо, в тиши мастерской, один на один со своими холстами, а «горести» терзали его у всех на виду, и он не переставал громко жаловаться на те муки, которые его искусство причиняет ему. Уже во время первого своего юбилея, когда исполнилось двадцать пять лет его творческой деятельности, он напечатал в газете письмо, где называл себя «страдальцем от неудовлетворительности своих произведений»:
«При встрече со своими картинами на выставках, в музеях я чувствую себя безнадежно несчастным» [87].
Над этим немало глумились в печати, но это было именно так. Здесь была его незаживающая рана. «…Все, что ни пишу, кажется плохим, тяжелым, нехудожественным», — признавался он Жиркевичу в девяностых годах[88].
И тогда же своей ученице Веревкиной:
«Приехав, я увидел, что все мое плохое, неудачное еще хуже стало».
И жаловался ей, что испытывает у себя в мастерской «разочарование, отчаяние и все те прелести в нашей деятельности, от которых можно повеситься» [89].
«Он страдал от неудовлетворенности, — вспоминает о нем передвижник Я. Д. Минченков, — как будто его давила какая-то тяжесть, которую и он, сильный, не мог с себя сбросить, не мог от нее разгрузиться.
— Не то, не то… — повторял Репин, стоя одиноко перед своей картиной, и лицо его принимало страдальческое выражение, в голосе слышалась досада, раздражительность»[90].
Так великолепна была всякий раз та картина, которую он хотел написать, что по сравнению с ней та, которая в конце концов была написана им, как бы ни была она замечательна, все же казалась ему неудачей.
«Несчастны те, у кого требования выше средств, — нет гармонии — нет счастья», — писал он Веревкиной в 1894 году. «…Кажется, начал бы учиться снова… если бы вообще человек мог сделать, то, что он хочет. Увы, он делает только то, что может» [91].
К нему вполне применимы слова Некрасова о Белинском:
Не думал ты, что стоишь ты венца,
И разум твой горел, не угасая.
Самим собой и жизнью до конца
Святое недовольство сохраняя —
То недовольство, при котором нет
Ни самооболыценья, ни застоя…
«Святое недовольство» собой, томившее некогда Гоголя, Белинского, Некрасова, Чехова, было и для Репина пыткой.
Всякий раз, когда я сопровождал его в Русский музей, в Третьяковскую галерею, я видел, какую боль доставляет ему созерцание своих старых картин. Не замечая их достоинств, взыскательный мастер видел в них одни лишь недостатки и, кажется, будь его воля, снял бы их со стены, чтобы заново работать над ними.
Та же Веревкина вспоминает, как мучительно выказывал он недовольство собой, стоя в Русском музее перед своей картиной «Николай Мирликийский».
«…Мой порыв осекся, — сообщает она, — перед страдающим, неприязненным взглядом, которым он (Репин. — К. Ч.) смотрел на картину.
— Пойдемте, пойдемте! Ну, что тут стоять! — нетерпеливо оборвал он, и в этом внезапном раздражении я узнала его вечную болезненную неудовлетворенность своим творением.
Мы пошли в сторону Летнего сада… Илья Ефимович стал осыпать картину отрывистыми упреками: холодный фон не вяжется с яркостью первого плана… фигуры в толпе жидковаты… Святитель Николай заслонен громоздкостью палача.
— Ах, все надо было совсем иначе!!.. От себя не уйдешь…»[92].
Когда я в своих давних воспоминаниях о Репине описывал те нравственные муки, которые причиняло ему всегдашнее недовольство собой, многие отнеслись к моим словам недоверчиво. Но с той поры появилось немало мемуарных свидетельств, подтверждающих мои воспоминания. Т. Л. Щепкина-Куперник, например, повествует:
«Отправив свою картину на выставку, увидав ее среди других, [он] часто приходил в отчаяние. Убегал с выставки, торопясь так, что едва попадал в рукав шубы, и только нервно повторял:
— Не вышло… не нашел… О, о, о… как же это… не так надо было!» [93]
Ничего этого я, конечно, не знал, когда впервые посетил его Пенаты. И поэтому можно представить себе, с каким изумлением услышал я у него в мастерской, как он рассказывает какому-то гостю:
— Сейчас приезжал ко мне один покупатель. Я его отговорил: «дрянь картина, не стоит покупать». Он и уехал.
Признаюсь, что его манера так непочтительно говорить о себе показалась мне в первую минуту чудачеством. Ведь ни одному из русских художников, кроме разве Брюллова, не выпадало при жизни столько великих успехов. Репину не было и тридцати лет, когда он написал «Бурлаков», и с тех пор почти каждая его картина воспринималась как событие русской общественной жизни. «Почему же он, — думал я, — не позволяет себе гордиться своими заслугами? Почему о своих картинах он говорит с такой горечью, с такими удрученными вздохами?»
Многим, поверхностно знавшим художника, чудилась здесь рисовка, игра. И только ближе познакомившись с ним, я увидел, что все его жалобы искренни, ибо горькое чувство недовольства собой было связано у него с самим процессом его повседневной работы. Каждая картина, особенно в последние годы, давалась ему с таким надрывным трудом, он столько раз менял, перекраивал, переиначивал в ней каждый вершок, предъявляя к себе при этом такие невыполнимые требования, что у него и в самом деле выдавались периоды, когда он ненавидел себя за свою «неумелость».
И все же я никак не мог привыкнуть к тому пренебрежительному тону, с которым он в письмах ко мне говорит о своем даровании.
«…Трудолюбивая посредственность много ошибок натворила…» — так говорил он о себе в письме от 31 января 1926 г.
…«„Финские знаменитости“ все еще стоят у меня на мольберте, — писал он в том же письме, — и я, как вечно неудовлетворенная посредственность, погоняю свою старую клячу Россинанта вдогонку кровных рысаков… Разумеется, кляча не выдрессируется и с большими годами работы в рысака. Этому никакие колдовства не помогут».
Вскоре после того, как я познакомился с ним, он рассказывал при мне о Ропете — безвкусном и аляповатом архитекторе:
— Ропет был похож на меня и лицом и фигурой, но (чрезвычайно характерное «но»! — К. Ч.) как он дивно, дивно рисовал!
«Боже мой, какая мерзость!.. — писал он об одном из своих ранних этюдов. — Особенно этот язык молнии и эта женщина в центре — вот гадость-то!..»[94]
И признавался в одном из интимнейших писем:
«Я даже скопировать ничего не могу своего — мне все мое кажется так плохо, что повторять — глупо» [95].
О своей картине «Пушкин на берегу Черного моря», написанной совместно с Айвазовским, он в первый же день моего посещения Пенатов высказался буквально в таких выражениях:
«Дивное море написал Айвазовский… И я удостоился намалевать там фигурку».
«Вообще о моем таланте, — писал он мне в 1927 году, — сколько помнится, всегда был спорный вопрос. И должен признаться, что и я сам был в числе не признающих за собой таланта. И теперь, когда на 83-м году жизни я с особой ясностью понимаю, что такое талант, я припоминаю, что еще в Чугуеве в 1856 году своему брату двоюродному Ивану Бочарову я говорил уже трагически, что у меня нет таланта. Он слегка оспаривал, а я плакал внутри» [96].


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)