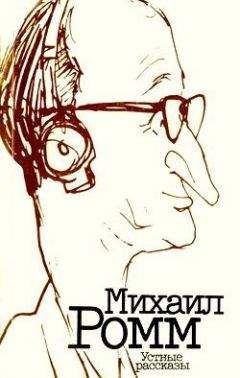Человек он [Вишневский] был, вероятно, очень хороший, но совершенно неумеренный. Говорил он всегда сквозь зубы, ударяя кулаком по пюпитру. Говорил, что мы уничтожим эту камерную кинематографию, нам нужна монументальная кинематография, та кинематография, которую делают братья Васильевы, Эйзенштейн, Пудовкин, Дзиган. А вы, камерники, должны быть истреблены, должны быть уничтожены и т. п.
Я был человек сердитый (тогда, в молодости, сейчас стал добрый), взял слово и сказал ему, что, во-первых, руки коротки уничтожить (а у него были действительно короткие ручки). Это имело успех. Я говорю: посмотрим, уничтожите ли вы меня в конце концов, или я вас уничтожу. Еще неизвестно, что такое камерная и что такое монументальная кинематография, — и прочее.
Мое выступление было очень резко и так же грубо, как выступление Вишневского. Я сказал: пока что вы сделали один — в скобках — один сценарий, для одной — в скобках — одной — картины Дзигана, ничего больше вы не сделали, мол, «Оптимистическая трагедия» это ерунда такая же, как вся эта патетика, которую я терпеть не могу. Это вопль, а не кинематограф. ‹…›
Тогда он напечатал в газете «Кино» статью о камерной кинематографии, очень интересную. В статье этой исследовалось вообще слово «камерный» — это камера-обскура — это темная камера… камермен — это лакей. В общем оказалось, что я лакей, тюремщик и т. д. и т. д.
Я очень рассердился и в результате этого неожиданно получил квартиру. Я написал бешеное письмо Шумяцкому. Написал, что помещение такой статьи в газете «Кино» безграничное хамство. Тем более что Вишневский — человек защищенный и просто оскорбительные вещи пишет о молодом режиссере, который сделал две картины. Имейте в виду, что вы отныне мой смертельный враг.
Шумяцкий был человек своеобразный. На этот раз он вызвал Сливкина, который был его помощником, и сказал: вот видите, вы все время говорите, какой Ромм, такой, сякой, а он просто сукин сын. Вы посмотрите, какой мерзавец письмо написал. Ведь он действительно будет жаловаться. Дайте квартиру этому негодяю, заткните ему рот.
Сливкин сейчас же поскакал ко мне и сказал: «Немедленно идите на Большую Полянку, там строится дом, выбирайте квартиру, пока он не переменил решение. Я вам дам ключи». Хотя дом был недостроен, но тем не менее я получил квартиру тут же.
‹…› Над сценарием «Пиковой дамы» продолжал работать терпеливый Эдуард Пенцлин, мой соавтор. Подбирал эскизы. Каплуновский должен был быть художником. Он, кстати, сделал очень интересные эскизы к «Пиковой Даме».
Подбирались уже актеры. И я решил делать сейчас «Пиковую даму», чтобы все-таки не обмануть Пенцлина и чтобы выполнить свою задачу.
Таким образом я твердо становился на путь эдакой камерной кинематографии. «Пиковая дама» опять соблазняла меня, в первую очередь тем, что это очень мало слов, что это, по существу, немая картина и что это пантомима, при огромном количестве выразительного действия.
Я имел также в виду конкретность и точность пушкинского письма. На этот раз мне не нужен был ни Мопассан, ни Прут, был Пушкин, который пишет необыкновенно кинематографично. В этом я убедился тогда, и я решил сделать максимально точно «Пиковую даму».
Но, к сожалению, там было много вещей, Пушкиным не написанных, которые казались мне чрезвычайно важными.
Например, мне казалось очень важной социальная идея «Пиковой дамы». В опере, которая широко известна, все перенесено в XVIII век, во-первых; во-вторых, сделан какой-то богатый барин Томский и другой богатый барин — князь Елецкий, жених Елизаветы Ивановны, в то время как по Пушкину Елизавета Ивановна это бедная приживалка в роду беднеющем и аристократическом. В заключительной фразе у Пушкина сказано: Елизавета Ивановна вышла замуж за сына управителя. ‹…› А про управителя сказано, что он имеет приличное состояние и где-то служит.
Не трудно понять, что управитель старой графини — это, так сказать, представитель возникающего и растущего класса буржуазии. Он еще получиновник, где-то служит, но имеет уже приличное состояние. В то время как вся фантастическая история с Пиковой дамой и с этой беднеющей аристократией, которая, в общем, вымирает, символизирует современное положение родовой аристократии.
Так я это понял, и поэтому пушкинская идея мне показалась весьма примечательной с точки зрения социального анализа того, кто же достается в наследство этим красивым, знатным девушкам. Достаются преуспевающие молодые люди с деньгами.
А все фантастические куски, всякие призраки, это в общем-то мертвое. Идея того, что мертвое хватает живого, Пушкину вообще свойственна. Вспомним, что в «Медном всаднике» Петр Первый хватает живого Евгения, который тоже наследник высоких дворянских имен, а ныне обедневший дворянин.
Про себя Пушкин пишет:[39] «я мещанин, я мещанин», хотя он наследник знатного рода. Эта ущемленность знатности и бедности, зависимость от денег и процветания денежных новых элементов ухвачена Пушкиным, по-моему, как раз в «Пиковой даме» очень сильно.
Мне думается, что это, в общем, довольно правильное толкование «Пиковой дамы», — так, как мы придумали. Финал «Пиковой дамы», что Германн сошел с ума, что Елизавета Ивановна не утопилась в Зимней канавке, а вышла замуж за богатого, преуспевающего молодого человека с приличным капиталом, и т. д. и т. д., все это показалось мне примечательным.
Примечательным мне показался и характер Германна, немца в высшей степени аккуратного, как всякий немец, но одновременно склонного к фантастическим идеям. Если мы вспомним дальнейшую историю некоторых германнских авантюр, более поздних, то, в общем, это угадано Пушкиным довольно точно, это вполне в немецком характере. То есть сама идея, может быть, абсолютно фантастична, но выполняется она с поразительной точностью.
Когда Германн узнал три верные карты, он, в отличие от оперы, сделал очень практичные и точные шаги: он все продал и все заложил. Мне кажется, что эта деталь была необходима для картины. Я ее и ввел, как он продает и закладывает все, вплоть до шубы, все, что у него есть. Собрал весь наличный капитал.
Наличный капитал его состоял не из сорока тысяч, как красиво говорит Германн в опере: «сорок тысяч», а из тридцати семи тысяч. Тридцать семь тысяч — то, что собрал Германн. Следовательно, когда он выигрывал по первой карте, у него получалось не восемьдесят тысяч, а всего семьдесят четыре. И после семидесяти четырех тысяч, когда он второй раз поставил уже семьдесят четыре тысячи, у него образовалось сто сорок восемь тысяч. Вот эти деньги он и поставил на третью карту — сто сорок восемь тысяч. Он бы получил триста тысяч капиталу.
Точность этих цифр, то, что он трижды ставит карту, это общество, которое собралось вокруг старого картежника, и т. д., все это меня очень соблазняло, и хотя основные вещи я сделал довольно точно по Пушкину, но здесь я позволил себе, опять с минимальным количеством слов, развернуть широкую пантомиму. В диалоге же я использовал в основном только тексты Пушкина. Некоторые добавки были грубоваты, но это было в стиле времени.
Большие затруднения для меня представляло понимание призрака графини и как угадал Германн три карты. После долгих размышлений я обратил внимание на некоторые тексты Пушкина, которые, мне показалось, могут как бы расшифровать эти три карты — тройку, семерку, туз.
Семерку Пушкин считал магическим числом, это известно. И не только Пушкин. Вообще цифре семь почему-то придавалось особое совершенно значение, даже в арифметических действиях. Это не кратно ничему и чрезвычайно сложно для математических функций, а кроме того, у Калиостро и других семерка всегда была магическим числом. Туз — ну, это естественно, это самая высокая карта. Последняя. Остается тройка.
Германн, вспоминая рассказ Томского, рассуждает ночью в казарме, — «нет, все это бабьи выдумки, нет, расчет, умеренность, трудолюбие — вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал». Это цитата из Пушкина: «— вот что утроит, усемерит мой капитал. Тройка, семерка, туз. Утроит, усемерит капитал».
Значит, эти слова Пушкина явно не случайны, у него оговорок вообще не бывало, он крайне лаконичен. Он не сказал: учетверит, или увосьмерит, или удесятерит. Утроит, усемерит. И действительно, цифры оказываются — 3 и 7… Хотя капитал не утрояется и не усемеряется, он удваивается, учетверяется и затем еще раз удваивается. А он говорит: «утроит, усемерит мой капитал».
Я решил, что, машинально перебирая колоду карт у себя в казарме и бросая направо, налево карты, как это полагалось в «фараоне»: бито — дано, бито — дано, бито — дано, направо дано, налево — бито, — он случайно выбрасывает тройку, семерку и туз. Он смешивает эти карты, но запоминает их, конечно. И зритель запоминает их. Я на это особенного внимания не обращал.