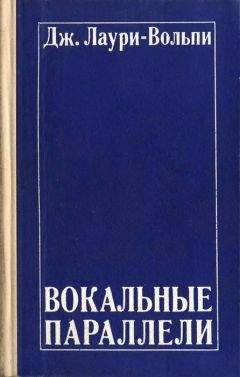С гораздо более бесспорным успехом Анитуа исполняла камерную музыку. В концертах ее не то мужской, не то женский голос слушался с удовольствием, ибо жанр этот таков, что певец, подвизающийся в нем, является не драматическим персонажем, но лишь инструментом, исполняющим музыку под управлением собственного хорошего вкуса и интеллекта художника, а этих двух качеств артистке было не занимать.
Сейчас в Мехико процветает созданная ею школа пения. И это не должно удивлять тех, кто знает предприимчивость певицы и ее владение вокальной техникой. Театр ей пришлось оставить после перенесенной тяжелой операции — закат, который познали многие оперные дивы. К нему подчас приводит — мы уже говорили об этом — пользование небезопасным для женщин нижнебрюшным типом дыхания.
Эба Стиньяни
В 1927 году на борту трансатлантика «Юлий Цезарь» дирижер Джино Маринуцци представил Клаудии Муцио и Джакомо Лаури-Вольпи начинающую певицу, обладательницу меццо-сопрано, учившуюся пению в Неаполе и подававшую блестящие надежды. Под ее наружной мягкостью и скромностью скрывалась целеустремленность уроженки Романьи и пылкость обитательницы Неаполя, ставшего ей, так сказать, приемным отцом. Под руководством сицилийского маэстро вся эта компания тут же провела первую репетицию «Нормы», которой должен был открыться сезон в буэнос-айресском театре «Колон». Звук Стиньяни превзошел тогда по яркости звук самой Муцио и тембром вызвал у всех иллюзию лирического сопрано. Но партии Адальжизы светлый звук отнюдь не противопоказан, и несколькими днями спустя требовательная публика фешенебельного театра благосклонно рукоплескала певице. Прошли годы, и голос певицы стал еще масштабнее и привлекательнее, обогатившись новыми тембрами, хотя фигура ее, уплотнившаяся и раздавшаяся, перестала быть столь сценичной. Звуковедение ее с самого начала свидетельствовало об умении и мудрости, но со временем в нем возобладала неартикулированная звучность гласной «а», самой богатой из всех и прозванной вследствие этого «королевой гласных». Стиньяни не испытывала потребности «сказать», выразить что-либо словесно; ей хотелось просто исполнять музыку голосом, чистую музыку, без происшествий и внутренних конфликтов. Она брала музыкальную мысль, но отбрасывала мысль поэтическую. Недаром один известный дирижер определил ее как «певицу одной гласной». Возможно, он хотел этим сказать, что если бы человеческий голос занял когда-нибудь место среди инструментов оркестра, это место среди первых досталось бы Стиньяни, которую можно назвать, вложив в это слово искреннее уважение, певицей-инструменталисткой. Требовать от нее создания образа было бы крючкотворством. Все ее персонажи похожи один на другой, все одинаково «она», и пытаться понять пропеваемые ею слова — напрасная трата времени. Текста, который мог бы быть донесен до слушателя этим полным покоя голосом, не знавшим артикуляционных ограничений, упивающимся игрой своего звука, подобным одиноко журчащему фонтану, который омывает сам себя, — такого текста просто не существует. Перед нами всегда женщина-инструмент, идет ли речь о партии Азучены или Амнерис, Сантуццы или Орфея, Далилы или Адальжизы, Эболи или Прециозиллы. И этот инструмент, как и музыкантша, на нем играющая, достойны всяческого восхищения. Сегодня все более укрепляется тенденция к звуковой стилизации, к «растворению» слова. (Это приводит на память Аркадию, где поэзия мало-помалу исчезла в музыке.) Искусство служит искусству, техника — технике. Чувство, воображение, мысль изгнаны из музыки, и она предстает перед нами прекрасной и безжизненной, как редкий Кристалл. И все же рассматриваемый нами случай скорее уникален, нежели просто редок, хотя и напрашивается на аналогию с другим, разобранным выше (мы имеем в виду сопрано Элизабет Ретберг). Дело в том, что он идеально воплощает целый педагогический принцип, ратующий за независимость вокала от слова. Согласно ему независимость эта является обязательной, ибо лишь она способна якобы сохранить связность и непрерывность звуковой струи, которая под влиянием дикции колеблется, меняет форму и даже вовсе пресекается. Впрочем, именно вокруг этого момента итальянская и французская школы скрестили копья в Париже еще в начале минувшего века. Вредит ли произношение качеству звука? Или оно, наоборот, помогает звуку вырасти и разлиться? Существует ли некий средний путь, по которому параллельно друг другу могли бы следовать слово и звук, рот и гортань? В Германии, например, сопрано и меццо-сопрано проводят в жизнь вышеупомянутый принцип, тогда как мужские голоса там склонны к преувеличенной декламационности.
Параллель Анитуа — Стиньяни
Природа проявила внимание к животным и птицам, ибо каждому дала голос, соответствующий его обличью. Соловей наделен голосом живым, подвижным и грациозным, сова ухает словно из-под воды, ошеломленно пяля неподвижные желтые глаза, дрозд легкомысленно посвистывает, выражая модуляциями наклонности своего инстинкта, ворон издает карканье, такое же мрачное и неприятное, как его пристрастие к падали, и так далее.
Но на людей это соответствие не распространяется, здесь природа воздерживается от наклейки ярлыков. Человек сам направляет становление своей личности в соответствии с опытом, извлекаемым им из познания природных и общественных взаимосвязей. А отсюда следует, что человеческий голос далеко не всегда соответствует личности своего обладателя; среди людей встречаются вороны с голосом дрозда, совы с голосом соловья и лягушки с голосом ласточки. Нечто подобное бывает и на оперной сцене, когда большой и яркий голос скрывается в тщедушном теле, а голос небольшой и подвижный — в теле огромном и неуклюжем.
Фанни Анитуа была из тех вокалисток, которые находят удовлетворение в самих себе и считают, что фигура, превосходящая нормальные человеческие пропорции, это пустяки, на которые не стоит тратить внимание. Разве одного лишь виртуозного вокала недостаточно, чтобы возместить недостаток зрительных впечатлений избытком слуховых и удовлетворить даже ту публику, которая жаждет эффектного сценического зрелища? В этом беззаботном убеждении с ней солидарна и Стиньяни, приписывающая красоте голоса магическую власть над сердцами и оставляющая за телом право лишь на то, что принадлежит сугубо телу. В прошлом это действительно было допустимо или, по крайней мере, терпимо. Сегодня же, когда по экранам победно шествуют вымуштрованные, тренированные кинозвезды, ни на минуту не прекращающие борьбы с лишним весом, прежняя снисходительность и либеральничанье неуместны. Публика не только требует, она диктует. И даже такая певица, как Стиньяни, не в состоянии с нею не считаться.
Кончита Супервиа
Перед нами певица, наделенная лирическим сопрано, которая из-за плохих верхов взялась за меццо-сопрановый репертуар, выбирая в нем партии, допускающие подмену чисто звуковой выразительности выразительностью декламационной.
Партии Миньон, Золушки, Итальянки в Алжире нашли в голосе этой каталонки воплощение выпуклое и полное грации. Замечена была Супервиа еще во Флоренции, когда дебютировала в «Норме», имея своей партнершей Эстер Мадзолени. Впоследствии она безраздельно завоевала публику изысканным благородством интонации и блеском своих внешних данных.
А начала она в 1920 году, в пору, когда Анитуа и Стиньяни пожинали лавры успеха. И вторгнуться в их владения и утвердиться там для молодой артистки было делом вовсе не легким. Вее же, проявляя скромность и терпение, не выдвигая громких требований и скороспелых претензий, она сумела пробить себе дорогу.
Позже, гастролируя во Франции, она захотела исполнять «Кармен» в стиле Комической оперы. И вот бархатистый и нежний голос Адальжизы переродился в прокуренный голос севильской сигарницы. Очень велик разрыв между Беллини и Визе, между ангелоподобной, охваченной чистой любовью Адальжизой и этой дочерью сатаны, непостоянной и насмешливой. Внутренний мир бедной Кончиты претерпел нечто вроде землетрясения, и последствия его сказались даже на ее повседневной жизни: в жестах ее появилось некое беспокойство, в походке — суетливость. Она как бы постоянно ждала распоряжений какого-то важного яйца, готовилась повиноваться не подлежащему отмене приказу. Дух Кармен завладел ее телом настолько, что даже голос ее стал покачиваться, напоминая отрывистые звуки колокольчика, сотрясаемого невидимой рукой. В этом она напоминала известную Луизу Гарибальди,[11] которую автор слышал однажды в партии Маддалены в старом театре «Костанци» в Риме.
После «Кармен» прекрасную Кончиту нельзя было более узнать. От свежести и нежности, которую она когда-то умела вкладывать во многие исполняемые ею партии, не осталось и следа. Она уехала в Мадрид, некоторое время соперничала там в популярности с Мигелем Флетой и вскоре умерла.