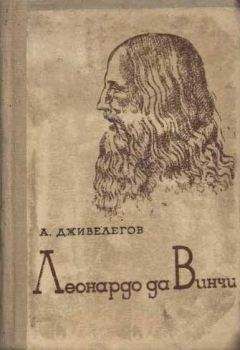Русской поэзии, даже на ее модернистском этапе, не было свойственно углубление в дебри квазиклассического сопряжения звучаний и смыслов, отличавшего опыты Валери. Подобные крайности интеллектуализма в лирике, сугубо французские по традиции и методу, чужды духу нашего языка и эволюции русской поэзии — при всем том, что и она в свое время пережила немало удивительных превращений, подчас болезненных, на недолгом историческом отрезке жизни чуть ли не одного поколения — от Белого и Хлебникова до Цветаевой и Пастернака.
Если искать в русских стихах подобие поэтического строя Валери (точнее, его цикла «Чар» ), то следует, пожалуй, вспомнить одно стихотворение О. Мандельштама, правда стоящее особняком в творчестве этого поэта, — его мажорную и призрачную «Грифельную оду» (1923):
Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень…
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный…
Здесь не прямое соответствие и тем более не влияние, а именно подобие — совпадение исторической фазы, созвучие своенравной разрушительной работы слова, идущей сходными путями на двух разных меридианах. В обоих случаях, однако, эта роковая отрицательная работа включала в себя моменты сохранения традиционных форм, что сообщало ее плодам особенный вкус и характер, решительно отличный от наваждений сюрреалистского толка, распространявшихся тогда на Западе. «Литература интересует меня глубоко, — объяснял свою поэтическую позицию Валери, — только в той мере, в какой она упражняет ум определенными трансформациями — теми, в которых главная роль принадлежит особенностям языка… Способность подчинять обычные слова непредвиденным целям, не ломая освященных традициями форм, схватывание и передача трудновыразимых вещей и в особенности одновременное проведение синтаксиса, гармонического звучания и мысли (в чем и состоит чистейшая задача поэзии) — все это образует, на мой взгляд, высший предмет нашего искусства».
Мы уже видели, что лирика Валери начала 20-х годов с ее строгой формой и мудреным, отвлеченным смыслом сразу покорила искушенных современников. Не заставило себя ждать и признание более широкой читающей публики. И все же поражает быстрота, с какой воспользовалась новорожденной славой Валери официальная Франция Третьей республики. Уже в 1925 году он был избран членом Французской Академии и в 1927 году занял там освободившееся кресло Анатоля Франса. Поэзия Валери приобрела отпечаток общепризнанной, была сразу приобщена к национальному художественному достоянию. А сам Валери наконец стал тем, кем он не был и не хотел быть до тех пор, — литератором по профессии.
На это у него было свое объяснение, не лишенное тона изящной мистификации, в котором он любил обращаться к читателям. В 1922 году, утверждал он, за смертью своего патрона он потерял работу в агентстве Гавас, ему нечем стало жить и пришлось писать, писать, не давая себе отдыха, хотя и поневоле.
Верить ли этим словам поэта? Существенным в его превращениях было то, что среди книг, созданных Валери за последнюю четверть века его жизни, не было больше ни одного сборника стихотворений. После начала 20-х годов Валери уже не вернулся к поэзии.
Как бы очнувшись в XX веке от символистского полусна, поэзия Валери приобрела в грозовые годы новой эпохи необщую художественную физиономию и с нею некий отпечаток равновесия, возникшего в какой‑то миг на крутой траектории нисхождения модернистского искусства. Продлиться такое мгновение не могло. Валери — чуткий рецептор общественных и духовных перемен — не искал возвращения счастливого момента относительной гармонии и меры, отметивших его кратковременный поэтический взлет.
К «поэтическому периоду» хронологически относятся два его знаменитых диалога в «сократическом» роде — «Эвпалинос, или Архитектор» и «Душа и танец» (1921). Эти любопытные размышления об искусстве, артистические «pastiches» (подражания) в излюбленном французском роде, овеянные поэтической атмосферой античных образцов, стоят как бы на грани между поэзией и музыкальной философской прозой. Но собственно поэтические опыты Валери остались позади.
Теперь Поль Валери — знаменитый писатель, «бессмертный», президент французского Пен-клуба, председатель и оратор многих комитетов и конференций, позднее профессор Коллеж‑де Франс, где специально для него была учреждена кафедра «поэтики». Автор «Юной Парки» и «Чар» стал модной литературной фигурой; его имя украшает литературные собрания, салоны и обложки дорогих изданий для знатоков; он совершает поездки по Европе в качестве «посла французской культуры». Из‑под его пера выходят многочисленные эссе об искусстве, о собственном поэтическом творчестве, о природе поэзии, очерки и лекции о поэтах и художниках недавнего прошлого — Бодлере, Верлене, Э. По, Малларме, Коро, Мане, Дега, введения к произведениям Декарта, Расина, Лафонтена, Стендаля и других классиков, академические юбилейные речи, журнальные статьи публицистического характера на актуальные темы современности, — труды, которых литературные сферы и издатели наперебой добивались от нового кумира.
Большинство его произведений (вместе с трактатом о Леонардо и «Г-ном Тэстом», воскрешенными им самим из забвения и снабженными авторскими комментариями) много раз переиздавалось при жизни писателя, отдельно или в составе сборников эссе и статей на темы искусства и на злободневные политические темы. В 30-х годах вышел в свет том его публицистики «Взгляд на современный мир»; эссе, статьи и очерки были собраны в книгах «Разные статьи» (пять томов) и «Статьи об искусстве». Позднее Валери создал книги особого жанра — сборники фрагментов, афоризмов, парадоксов, размышлений, частью почерпнутых из уже упомянутых личных тетрадей, частью возникших как заготовки к новым, незавершенным замыслам. К такому роду книг конца 30-х — начала 40-х годов относятся «Смесь», «Так, как есть» (два тома), «Скверные мысли и прочее» — все они содержат наброски и фрагменты, возникшие раньше, в 30-х и даже 20-х годах.
По свидетельству Валери, все, что им написано в прозе, написано на случай и по заказу, под давлением неумолимых обстоятельств и требований его литературной карьеры. Можно ли верить без оговорок и этим его объяснениям? Как бы ни обстояло дело в его собственном представлении, труды Валери-литератора утвердили значение его критической и эстетической мысли, раскрыли глубину и проницательность его позиций, только на первый взгляд казавшихся отвлеченными от дел и страстей мира сего. В сущности, вся эссеистика Валери, изящная и глубокомысленная, может быть понята в целом как система отталкивания от современного искусства буржуазного упадка, его произвола и мистификации, от его суррогатов новизны и погони за все более шокирующими внешними формами, от методов психологической атаки на вкусы публики и подмены сознательного содержания культом самовыражения.
Все же литературная деятельность Валери и на склоне его жизни была не менее противоречива, чем перипетии его творчества в молодые и зрелые годы. Писатель большого таланта, силы ума, высокой эстетической и гуманитарной культуры, он посвятил многие годы трудам, которые при всем их значении в духовной летописи века следовали за капризами внешнего случая, не подчиняясь какой‑либо определенной, вперед задуманной писателем программе. При внутренней связности и постоянном возвращении определенных мотивов они производили впечатление не единства и цельности, а разнообразия. Их богатство представало в рассеянном виде, оно могло показаться легковесным. «Литература, в которой видна система, — это пропащая литература», — считал Валери.
Мы будем оставаться в недоумении перед феноменом Валери до тех пор, пока не придем к пониманию того, что этот «случайный» характер его творчества не был делом случая. Им управляла определенная логика, которая одна способна была примирить строгие требования интеллекта и остро самокритический склад ума с долгим добровольным служением в качестве официальной фигуры своего времени, некоего «Боссюэ Третьей республики» (как шутил сам Валери), старательно исполнявшего в литературе и жизни ритуальные обязанности «бессмертного».
«Проблема» Валери состоит, между прочим, в том, чтобы понять с более высокой точки зрения, как общественный факт, логику этого его жизненного служения. «Искус» многолетнего «молчания», отказа от писательской деятельности, затем внезапный, но мимолетный «поэтический период» означали в конечном счете неприятие в широком смысле условий творчества в эпоху, которая именовалась «прекрасной» на языке благополучного буржуа, но вскоре обернулась ужасами мировой войны. Литературная активность Валери на последующем этапе не означала примирения с этими условиями в меняющемся мире. Намеренно «случайный», «светский», «не обязательный» характер прозы Валери его последней «мягкой» манеры, такой привлекательной для интеллигентного читателя, был чем‑то большим, чем просто отголоском завидной свободы «дилетантства», которую всегда высоко ценил писатель. Вольный, ненарочитый характер его творчества содержал в себе глубокий смысл. В нем был заложен солидный потенциал полемики против литературы модернизма, ее позы и ходячих мифологических схем.