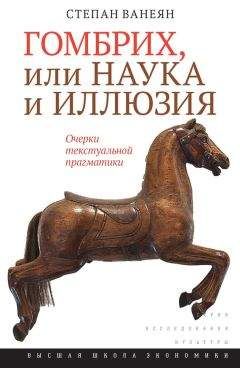«Паллада и Кентавр»
Сходное романтическое убеждение мешает более естественно истолковать еще одну картину Боттичелли — «Паллада и Кентавр». Когда ее открыли, то сочли политической аллегорией, поскольку одеяние Минервы расшито медичейскими эмблемами [216]. Считалось, что это своего рода «политический плакат», изображающий победу Лоренцо Медичи над Пацци или другой враждебной коалицией. Другие исследователи видели в ней торжество тонкой дипломатии Медичи над грубой силой неаполитанского двора. Однако политические аллегории такого рода, похоже, — явление более позднее. Во всяком случае, ни одной документально подтвержденной параллели это толкование не приводит. Политическое искусство предполагает широкую публику, на которую направлена пропаганда; мы же знаем, что Минерва находилась в частных покоях Медичи — весьма вероятно, в городском дворце Лоренцо Пьерфранческо. Исходя из внешних обстоятельств и типологического подхода, это — нравственная аллегория [217]. Легко предположить программу в духе Фичино, которая объясняла бы картину лучше политических сопоставлений.
Одна из главных тем у Фичино — положение человека между зверем и Богом [218]. Низшая часть нашей души связывает нас с миром тела и его чувств; высшая область сознания стремится к Божественному; разум, прерогатива человека, располагается посередине. Наша душа — арена беспрестанной борьбы между метаниями животных инстинктов и устремлениями разума — борьбы, которую лишь Божественное вмешательство способно разрешить, принеся с собой безмятежность небесной мудрости.
В письме к собрату-философу Фичино развивает любимую идею в образах настолько близких к картине Боттичелли, что отрывок стоит привести целиком:
«Мудрость, рожденная из возвышенной главы Юпитера, творца всего сущего, предписывает философам, своим обожателям, чтобы те, желая заполучить объект обожания, целили бы в верхнюю его часть, в самую главу, а не по ногам. Ибо Паллада, божественная дщерь, ниспосланная с высоких небес, сама обитает на высотах, где воздвигла себе твердыню. Более того, она учит, что мы не обретем вершины и главы вещей, если не поднимемся до главы души, интеллекта (mens), оставя позади низшие душевные области. Наконец она обещает, что, если мы удалимся в эту плодороднейшую главу души, которая есть интеллект, то, без сомнения, извлечем из нее такой интеллект, который будет спутником самой Минерве и помощником Юпитеру Всевышнему» [219].
Сформулировав свои пять вопросов об интеллекте, Фичино переходит к иерархии способностей с точки зрения платоновской теории движений. Тело стоит ниже всех, поскольку не может двигаться само, но приводится в движение душой в соответствии со строгими законами; душа способна к движению и устремляется к своим небесным истокам, где пребывает Бог. Удивительно ли, что мы не находим покоя, пока заключены в теле?
«„Наш зверь, сиречь чувства“, направляется к цели животными побуждениями, как стрела к мишени. „Наш человек, сиречь разум“, не находит удовлетворения в исполнении этих побуждений. Из-за разума, видящего более высокую цель, мы испытываем беспокойство и муки».
В этом значение несчастнейшего Прометея, который, «поучаемый небесной премудростью Паллады, получил небесный огонь, сиречь разум, из-за чего был прикован к горному пику, сиречь скале размышлений и беспрестанно терзаем хищнейшей птицей, которая есть желание знаний».
Или мы подобны Сизифу, который взбирается на крутую гору.
«Мы влечемся в величайшей вершине Олимпа, обитаем же в бездне глубочайшей долины. Здесь нас удерживают полчища преград и препятствий, и отвращает с пути обманчивая прелесть лугов».
Только Божественная милость способна разрешить парадокс человеческого бытия. Только бессмертие души придает смысл нашим земным трудам. Покуда душа заключена в теле, она не может достичь назначенных ей радости и совершенства.
Опять-таки, картина Боттичелли не иллюстрирует трактат Фичино, но точек соприкосновения достаточно много, и можно попытаться с их помощью восстановить отсутствующую программу. Она могла представить отношения «bestia noster, id est sensus» и «homo noster, id est ratio» [220] не в виде Прометея или Сизифа, но в виде Кентавра, совмещающего оба существа [221]. Он вооружен луком и стрелами, эмблемой животных устремлений [222], и «обитает в бездне глубочайшей долины» (habitat infmiae vallis abissum), удерживаемый, похоже, «обманчивой прелестью лугов» (pratorum blandimenta). Минерва-Mens, «рожденная из высокой главы Юпитера-творца» (summo Iovis creatoris capite nata), подобающим ей властным жестом берет душу за голову.
Эта гипотеза объясняет многие элементы картины, бессмысленные или даже нелепые в контексте прошлых толкований. Пейзаж — угрюмая скала и заманчивые виды вдали — не похож на обычный декоративный задник, это скорее аллегорический ландшафт, известный по таким сценам, как «Выбор Геракла» [223]. Лук и стрелы в отдельном объяснении не нуждаются, чего не скажешь о странной позе Минервы. Для картины, представляющей борьбу добра со злом — политическим или этическим, — композиция слишком вялая и статичная [224]. Минерва не борется с Кентавром — борьба идет с чудовищем, «рожденным больным, призванным к здоровью». Если взглянуть на картину в этом свете, станет понятным страдающее выражение Кентавра и его взгляд, поднятый на Минерву, воплощение Божественной Мудрости. Она мягко берет его за голову, успокаивает его метания, ведет по указанному пути, а он не сопротивляется, но покорствует ее воле.
La fgilia qui del gran Tonante sorga,
Che sanza matre del suo capo uscio;
Questa la mano al basso ingegno porga.
Встает дщерь великого Громовержца,
без матери вышедшая из его главы,
и протягивает руку нашему низкому уму [225].
Тип, избранный Боттичелли для головы Кентавра, не противоречит этому толкованию. Он, вероятно, взят с античной статуи [226], но художник придал ему черты не греховной брутальности, но своих молящихся святых [227]. И хотя мы не можем подтвердить свою гипотезу, нам кажется, что она ближе к духу картины, чем рассказ о поездке Лоренцо к Неаполитанскому двору.
Самую сложную проблему ставит перед нами «Рождение Венеры». Здесь нет загадок, требующих объяснения, — картина на редкость прозрачна. Слава апеллесовой Афродиты Анадиомены и описание [228] в «Турнире» Полициано, казалось бы, вполне объясняют картину. Но так ли это? Недавно один исследователь подчеркнул исключительность этого сюжета для кватроченто. «„Рождение Венеры“ можно назвать возрождением (Rinascita) Венеры, поскольку с этой картиной в европейское искусство вернулась самая коварная и соблазнительная из языческих демониц, одна из прекраснейших и самых живых обитательниц Олимпа. Однако Боттичелли слишком много себе позволил. Фра Джироламо Савонарола объявил войну новому идолопоклонству, и Сандро жестоко раскаялся» [229]. Такое толкование вошло бы в глубокое противоречие со всем, сказанным ранее. «Рождение Венеры», как и «Весна», написано для Лоренцо Пьерфранческо; если бы выученик Фичино