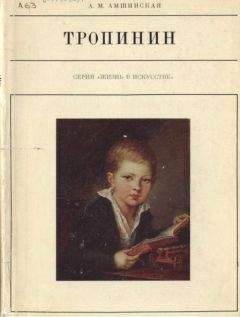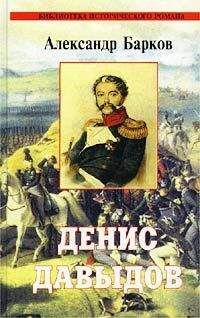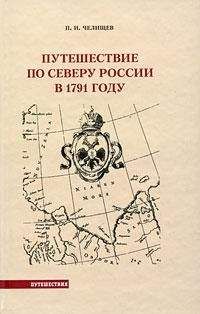В 1835 году, по случаю первого отчета художественного класса, Орлов выступил с целой художественной программой. В речи Орлова роль творческого воображения, вдохновенное претворение натуры художником, кругозор которого подготовлен и развит к восприятию прекрасного, противопоставляются «холодным советам опытности» и неосмысленной передаче натуры, как бы она ни была «хороша сама собой и искусно поставлена».
Говоря о подлинном художнике-творце, Орлов характеризует его так: «Артист зрелостью дарования и поэт силой воображения», который умеет «чертой выражать мысль и воображением одушевлять черты». Искусство, художественное образование представляется ему «делом государственным». «Живопись, — утверждает Орлов, — есть также язык, и язык красноречивый, выражающий истины для тех, кто умеет его понимать и им говорить».
Именно в эти годы Василий Андреевич является центральной фигурой московской художественной жизни — первым авторитетом среди ее живописцев. Поэтому то отличное от петербургского направление искусства, которое в эти годы зарождалось в Москве, неразрывно связано с именем Тропинина.
Мы располагаем немногими материалами о педагогической деятельности Василия Андреевича, но и это немногое чрезвычайно красноречиво. Вот что пишет один из первых учеников художественного класса, И. Тучнин, о Тропинине:
«Какой прекрасный человек, отец милосердный к ученикам, портретист великий, натуралист неподражаемый; авторитет, всеми любимый. Мы приходили к нему, он нас, учеников, принимал, как отец принимает детей, приехавших из учебного заведения на вакацию, радушно, ясно мы видели, что он ученика почитал за будущего художника-действователя. Показывал с любовью к ученику свои работы — и после приходил в класс и подходил к ученической работе как знакомый с теплым словом о живописи его… Василий Андреевич Тропинин часто приходил и говорил на ученическую работу ученику: хорошо, хорошо у вас — в особенности вот это место, и укажет где, — а потом ласковым голосом скажет: а вот тут поправьте немножко, вот таким колером, — и показывал на палитре колер, — иногда брал у ученика кисточку, велит держать палитру и составляет колер и тронет работу, говоря: вот так продолжайте; в другой раз приду — у вас лучше будет; вот тут это поправьте и вот это поотчетливее, а выходит у вас хорошо… То скажет: начните теперь новое, а тон пригляделось вам, но вышла хорошенькая вещь… Все места похвалит и все места велит поправить и окончательно скажет лекцию о живописи. Его приятную краткую авторитетную речь мы любили, а по уходе его… охотно стараемся к его второму приходу получше написать…» [46].
Случай сохранил нам некоторые сведения о советах, которые Тропинин давал начинающим художникам. В начале 1830-х годов его друг Яков Аргунов — представитель славной семьи крепостных художников — привел к нему свою ученицу. Бедная воспитанница самодурки барыни, крепостная по положению и барышня по воспитанию, Татьяна Александровна Астракова стала впоследствии известна как близкий друг семьи Герцена. Она оставила воспоминания о Герцене и его жене, дошедшие до нас в пересказе Пассек [47]. Ей-то и принадлежат интересные записки о посещении мастерской Тропинина и о советах его молодым художникам[48].
Астракова пишет, что Яков Иванович Аргунов ей всегда рассказывал «чудеса» о «таланте и прекрасных качествах» души Василия Андреевича. «Старайтесь хорошенько! Я вас свожу к Василию Андреевичу Тропинину; там вы насмотритесь и научитесь многому», — говорил он. И вот наконец Астракова, совсем молодая, почти девочка, глотая от волнения слезы, — у Тропинина.
«Из маленькой комнаты вышел в гостиную Василий Андреевич… передо мною стоял пожилой человек (так мне тогда казалось), среднего роста, с умною, открытою физиономией, в очках, с добродушной улыбкой, в халате, с палитрой в руке… „Вы меня извините, барышня, что я в халате, но я усвоил это платье: в нем свободнее работать, да уж и принимаю свою братию, художников…“ Мы вошли в маленькую комнату с одним окном, где по стенам стояло и висело множество начатых и оконченных портретов». Рассказала Астракова, как, рассматривая ее рисунки и портреты, подробно, штрих за штрихом, Василий Андреевич толковал, что хорошо и что дурно, и почему. «Каждое прикосновение кисти проследил он и тотчас толковал, что нужно избегать, чего держаться. Чтобы поправить кисть, он советовал пописать с хороших оригиналов (которые сам присылал мне)… А больше всего советовал писать с натуры и подражать ей точнее, сколько сумею. Вот некоторые из его советов: „Лучший учитель — природа, — говорил Василий Андреевич, — нужно предаться ей всей душой, любить ее всем сердцем, и тогда сам человек сделается чище, нравственнее, и работа его будет спориться и выходить лучше многих ученых“. Он советовал: „…всегда, постоянно, где бы вы ни были, вглядываться в натуру и не пропускать ни малейшей подробности в ее игре“».
«Не упускайте из вида, что в портрете главное — лицо, — говорил он, — работайте голову со всем вниманием и усердием, остальное — дело второстепенное. Обращайте внимание при посадке для портрета кого бы то ни было, чтобы это лицо не заботилось сесть так, уложить руку этак… постарайтесь развлечь его разговором и даже отвлечь от мысли, что вот он сидит для портрета». «Никогда не должно укладывать, устраивать что-либо в платьях, а, приглядевшись в первый сеанс к натуре, бросайте на болван платье так, чтобы складки легли возможно естественно».
Астракова свидетельствовала, что Василий Андреевич наотрез отказывался от частных уроков и вообще от платы за помощь и руководство молодым живописцам. «Я люблю живопись и всегда охотно помогу и словами и делом тому, кто искренне желает изучить ее. Возмездия я за это не возьму ни с кого — это святотатство», — говорил он. Однако различал, кто истинно нуждается в его советах, кто попусту отрывает от дела.
Вместе с тем художник не мог пройти мимо, если чувствовал, что начинающему живописцу нужна его помощь. Рамазанов приводит рассказ Петра Михайловича Боклевского, который «как-то, гуляя в Сокольниках, увидел в окне маленького домика халатника-мальчика, писавшего масляными красками турку с литографии Ястребилова, и тут же у окна встретил старика очень почтенной наружности, который обратился к мальчику со словами: „Зачем ты все флейсом пишешь? Постой, я тебе покажу!“ С этими словами старик вошел в домик, где писал мальчик, и, сев на его место, как будто не по доброй воле, а по необходимости, взял маленькие колонковые кисточки, подмалевал лицо пятнисто, как бы мозаично, — и голова турка вдруг ожила. Боклевский, наблюдавший за всем этим, мучился любопытством узнать имя художника, наконец не выдержал и, обратясь к почтенному старику, спросил: „Позвольте узнать вашу фамилию?“ „Тропинин“, — отвечал тот. „А ваша фамилия?“ — „Студент Боклевский“. — „Тоже занимаетесь, может быть, живописью?“ — спросил Василий Андреевич. „Акварелью“, — ответил Боклевский и поспешил вынуть из бывшего с ним портфеля акварельную головку цыганки… Тропинин сделал на нее несколько замечаний». Впоследствии Боклевский исполнил сангиной превосходную копию с автопортрета Тропинина.
Все отношения Тропинина к начинающим художникам говорят о его горячей, кровной заинтересованности в судьбе русского искусства, от которого он не отделял себя.
Руководя учениками изо дня в день, постоянно бывая в классах, Тропинин не оставлял в покое и учителей. Рамазанов приводит слова художника к преподавателям: «Ученики-то вот в классах одни, а вы, получая здесь жалование, разъезжаете по городу на посторонние уроки!» Бывая на занятиях и постоянно наблюдая за учениками, Тропинин делал все это по своему личному побуждению, не числясь официальным преподавателем. Василий Андреевич соглашался поступить в класс и, несмотря на скудность его средств, брался преподавать совершенно бесплатно, поставив единственным условием, чтобы за казенную квартиру ему не пришлось платить более двухсот рублей в год, которые он платил, живя на Ленивке. «Тогда буду заниматься с учениками, и из класса меня не выгоните», — говорил он. Однако некоторых из преподавателей, и прежде всего помощника директора А. С. Добровольского, страшила перспектива постоянного надзора со стороны честного, принципиального Тропинина, и он ответил Василию Андреевичу, что условия его приняты быть не могут.
Но Тропинин, и не числясь преподавателем, до конца дней продолжал по мере сил следить за классом, а потом и за Училищем, помогая его ученикам и советами и своим примером. «Он был так же полезен классу, что и законный преподаватель», — свидетельствует тот же Тучнин. А принимая во внимание, что в профессиональном отношении Тропинин был значительно выше «законных» учителей, то роль его в воспитании будущих художников надо признать особенно значительной. В Училище, очень бедном подлинными художественными произведениями, картины Тропинина служили многие годы оригиналами для копирования.