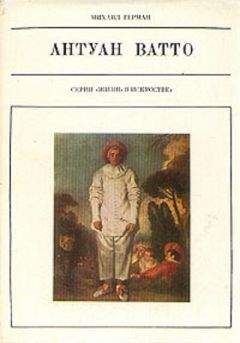«Иностранец вывернул наизнанку государство, как старьевщик выворачивает поношенное платье: то, что было изнанкой, он сделал лицом, а из лица сделал изнанку. Какие возникли неожиданные состояния!.. Сколько появилось лакеев, которым прислуживают их недавние товарищи, а завтра будут, быть может, прислуживать и господа!»
Монтескье
Мимо банка Лоу на улице Кэнкампуа, что неподалеку от Гревской площади, хоть раз случайно да прошел Ватто, и этого было достаточно, чтобы лицезреть алчность, почти безумие в самом неприкрытом виде. Если деятельность Лоу привела в лихорадочное движение финансовые дела, то сам он, будучи олицетворением ожидаемого чуда, стал в глазах даже знатнейших дам первым мужчиной Парижа. Это было и смешно, и страшно, так велико было легковерие, так жадно старались люди занять души и разум всем, чем угодно, лишь бы во что-то верить.
«Одна герцогиня при всех поцеловала ему (Лоу) руку. Если так поступают герцогини, что же станут целовать другие дамы? Я думаю, что, если бы он пожелал, француженки, не в обиду им будь сказано, стали бы целовать ему зад. Разве не стали они уже настолько бесстыдны, что смотрят, как он мочится? Чувствуя в том необходимость, он однажды отказался принять дам, объявив открыто, чем объясняется его отказ. Они ответили: „Пустяки, занимайтесь этим и слушайте нас“. Так они и остались возле него».
«Исторические отрывки» герцогини Орлеанской, принцессы Палатинской
Следует вновь попросить прощения у читателя, который, хочется надеяться, поверит в то, что процитированные строчки приведены не для пикантности, но единственно с целью показать, как легко было в ту пору свести с ума Париж и сдвинуть привычные представления о благопристойности. Ничто не принималось всерьез из того, что казалось серьезным ранее, зато все «странное» (опять же та самая «странность»!) принималось на веру со смешным и жалким в наше время восторгом.
Среди этого странного мира, впитывая в себя его и его не замечая, размышляя и забывая о нем, живет и пишет Ватто.
В жизни его наступает тот период, который без смущения можно назвать эпохой: это те годы, когда он пишет лучшие свои картины. Мы не знаем почти ничего о его жизни. Но сколько оставил он нам картин, за каждой из которых неведомый и полный дьявольского напряжения труд! Ему осталось прожить меньше четырех лет и вместе с тем целую жизнь, поскольку если за минувшие годы он стал самим собою, стал Антуаном Ватто, то за короткий оставшийся срок ему суждено стать Антуаном Ватто великим.
Конечно, и то, что уже было сделано, отвело бы ему достойное место в истории искусства, достойное, но не то единственное, которое он занял в ней благодаря последним своим холстам.
1718 год — он уезжает от Кроза.
1720-й — он отправляется в Англию, где проводит несколько месяцев.
Следующий год — год его смерти.
И все же этот короткий кусок жизни, подробности которого нам почти совершенно неизвестны, есть, наверное, именно то, что называют «звездными часами». Он и раньше писал немало, но никогда он не писал и не рисовал так много, так свободно, как после избавления от академической программы, как, видимо, и после ухода из дома Кроза.
Можно предполагать, что в доме Ле Брена он был просто квартирантом, поскольку, во-первых, его хозяин искусством едва ли увлекался, во-вторых, потому, что, уйдя от одного богача, чей хлеб и кров он принимал, как подарок, он вряд ли бы стал принимать вновь чью-то милость. Видимо, независимость и покой были ему всего важнее.
При этом, судя по микроскопическим сведениям, которые сохранила нам история, он ведет жизнь вовсе не экстравагантную, хотя достаточно замкнутую, по-прежнему оставаясь одновременно человеком и недоверчивым, и наивным.
Де Келюс приводит историю о том, как Ватто пленился однажды искусной работы париком и простодушно предложил отдать за него куаферу «две небольшие парные картины, пожалуй, самые пикантные из всего, что он создал». «Я пришел к нему вскоре после заключения этой выгодной сделки, — продолжает де Келюс. — Оказалось, что его немного мучит совесть. Он собирался написать для парикмахера еще одну картину, и лишь с великим трудом удалось мне его успокоить». Однако еще через несколько строк де Келюс рассказывает, как был возмущен Ватто претенциозной критикой одного из своих бездарных коллег и какой урок он ему преподал. Подобные рассказы говорят о многом и ни о чем: жизнь каждого известного художника обрастает такого рода историями, в значительной части выдуманными. А кроме того, и чудачество с париком, и достоинство в отношении своего ремесла — вещи не такие уж неожиданные для любого одаренного мастера.
Он много читает. Никто не рассказывает, что было его любимым чтением, читал ли он современные романы, сказки «Тысячи и одной ночи» или «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. В ту пору выходило немало новых книг, сильно занимавших умы парижан, книг, многие из которых ныне уже забыты; как говорилось уже, вновь издан был «Телемак» Фенелона, некогда столь прогневавший покойного короля, а теперь уже утративший злободневность, хотя и сохранивший тонкость стиля и изящество политических намеков. Но уже иная литература приходила на смену архаичным по новым временам сочинениям, серьезность сменялась скепсисом: Мариво издал роман «Телемак наизнанку», и отважное некогда произведение Фенелона стало поводом для создания занимательного сатирического рассказа о путешествии по вполне современной Франции. Трудно отказаться от мысли, что Мариво был в числе читаемых Ватто авторов — острота его наблюдений, юмор, умение видеть забавные и печальные гримасы повседневности должны были бы, казалось, привлекать к нему интерес художника.
Но есть одно обстоятельство, которое позволяет выдвинуть еще более заманчивое предложение: о возможности и личного знакомства Ватто и Мариво, хотя ни в одном источнике об этом не говорится.
Однако доподлинно известно о дружбе Ватто и Антуана де Ла Рока, бывшего военного, с которым, как мы помним, художник познакомился в Валансьене. Де Ла Рок, по-прежнему с трудом передвигавшийся из-за своей искалеченной ноги и напоминавший, судя по портретам, добродушного и потерявшего коварство Сильвера из бессмертного «Острова сокровищ», забыл, надо думать, о былой ратной славе и с увлечением занимался примерно тем, что в наше время называется журналистикой, а кроме того, писал оперные либретто, изучал искусство современных художников и мастеров прошлого. Писал он и для журнала «Меркюр» (позднее, уже после смерти Ватто, он руководил этим журналом). Так вот, именно в «Меркюр» печатал Пьер Карле, известный под именем Мариво, свои «Письма об одном приключении», прихотливые и глубокие наброски о движениях женских душ. Мариво не стал еще настоящим драматургом, но был страстным театралом, бывал и во Французской комедии, и в Итальянском театре. Трудно представить себе, что при подобных обстоятельствах знакомство Ватто и Мариво не состоялось. Но если даже и так, Ватто о Мариво знал. И наверное, видел в его сочинениях много себе близкого. «Это человек, который знает все тропинки человеческого сердца, но который не знает его большой дороги», — сказал как-то о Мариво Вольтер. Был ли он прав вполне? Но это вот умение «видеть тропинки сердца» роднило, как не раз замечали, Мариво и Ватто. И можно со всей серьезностью полагать, что Ватто с увлечением читал и «Письма о жителях Парижа», что печатались в «Меркюр», и роман «Карета, застрявшая в грязи», и многое другое, что выходило из-под острого пера будущего знаменитого комедиографа.
Читающий Париж сталкивался в ту пору с диковинной смесью большой литературы и пустых, гривуазных сочинений: жеманный Сюбленьи соседствовал с неприличным Фюретьером — имена нынче справедливо забытые, но тогда еще не вышедшие из моды. Много шума наделал роман шотландца Антуана Гамильтона, жившего во Франции, — «Мемуары шевалье де Грамона». То была типичная для эпохи регентства книга, хотя вышла она еще в 1713 году: подробнейшее описание легкомысленной жизни давно почившего английского короля Карла II, у которого и регенту не стыдно было поучиться.
Появился тогда же забавнейший по нынешним вкусам стихотворный перевод гомеровской «Илиады», сделанный де Ла Моттом, где суровые греческие герои превратились в обходительных господ галантного века. Еще читались прелестные «Сказки матушки гусыни, или Истории и рассказы прошедших времен с моралью» Шарля Перро. Пикантные стихи и эпиграммы участников знаменитейшего кружка Тампля, которые называли себя «либертинами» (вольнодумцы, развращенные) и которым покровительствовала и в самом деле весьма распутная герцогиня дю Мэн, внучка «великого Конде», любовница кардинала Полиньяка и многих других господ, расходились в списках и напечатанными по всему Парижу; и не исключено, что наш Ватто с улыбкой читал остроумные и неприличные стихи, те, которые, возможно, шептали друг другу на ухо персонажи его «галантных празднеств».