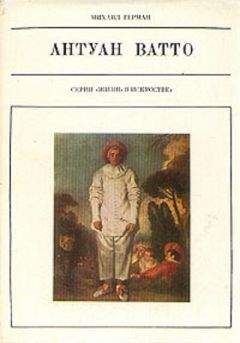И уж совсем забавно людям XX века представить себе, что очень модным чтением в ту пору были «Мемуары месье д’Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, содержащие множество частных и секретных вещей, которые произошли в царствование Людовика Великого», вышедшие в 1700 году впервые, а в 1704-м уже третьим изданием. Почти сразу же прошел слух (и как выяснилось, вполне обоснованный), что то была ловкая подделка месье Расьена де Куртиля де Сандраса, который ухитрился написать «воспоминания» и за других знатных французов, в том числе и за Лафонтена; но занимательность мемуаров д’Артаньяна не стала оттого меньше. Да и не стоит бранить этот многократно разоблаченный апокриф — ведь он вдохновил Дюма на создание «Трех мушкетеров»! Возможно, и Ватто, воодушевляемый де Ла Роком, мог увлекаться занимательной книгой де Куртиля. Возможно многое, но ничто, к сожалению, не доказуемо. А ведь существовала еще и классика. Ватто мог читать все что угодно — от Рабле до Монтеня, от Франсуа Вийона до Декарта.
Доподлинно известно — и то лишь из однажды написанных в письмах нескольких строк, что Ватто внимательно читал сочинения художников: «Возвращаю вам первый том сочинений Леонардо да Винчи и прошу принять мою искреннюю признательность, — писал он Жюльену. — Что касается рукописных писем Рубенса, то я их еще немного подержу, если вам это не особенно неприятно, потому что я их еще не дочитал. Боли в левой части головы не дают мне со среды заснуть». Надо сказать, что о своих болезнях Ватто пишет с обезоруживающим простодушием и откровенностью, подобно мудрому и стойкому Дидро или великому страдальцу Руссо, которые не стеснялись в письмах рассказывать об интимных частностях своих недугов.
При всех своих болезнях и чудачествах, при мизантропии и раздражительности, Ватто вел жизнь, вполне согласующуюся с принятыми в его среде — то есть в среде просвещенных буржуа и художников — обычаями. Вот одно из очень немногих сохранившихся писем Ватто, приводим его полностью, оно не отличается ни стилистическими тонкостями, ни важностью обсуждаемых в нем дел, тем выше его ценность для биографа, старающегося понять будничную жизнь своего героя.
«Мой друг Жерсен,
Как ты того желаешь, мы с Антуаном де Ла Роком придем к тебе завтра обедать. Я предполагаю в десять часов быть в Сен-Жермен-де-лʼОксеруа у обедни и обязательно буду у тебя к двенадцати часам, так как до этого мне нужно лишь навестить моего друга Молине, уже две недели больного краснухой.
До скорого свидания.
Твой друг Ватто»
При внимательном чтении из этого письма можно извлечь немало. Он ходит в церковь; конечно, этот факт не дает возможности судить, насколько он был религиозен, да и не о том речь. Важно, что и в этом отношении он жил и поступал «как все». Письмо помечено субботним днем, стало быть, речь идет о воскресной службе, которую пропускать было бы неприлично. Ватто пишет о намерении пойти в церковь как о вещи обычной. Но и задерживаться там он не намерен — за два часа он управится и с обедней, и с визитом к больному приятелю.
Приглашение на обед тоже, видимо, обычное для него дело — не такой уж он затворник и нелюдим. Он не ищет новых друзей, но старые связи не теряет, при всей своей замкнутости он умел сохранять дружескую привязанность к немногим, но достойным людям и, более того, обладал даром привязывать этих людей к себе. За год до принятия Ватто в Академию скончался в почтенном — восьмидесятишестилетнем возрасте старый Пьер Мариэтт, и сын его Жан окончательно стал во главе фирмы. С ним Ватто связывали узы давней признательности, хотя другие друзья и знакомые Ватто, в том числе и сын Жана Мариэтта, ревниво умалчивают о роли его в жизни художника, словно завидуя, что именно этому проницательному человеку принадлежала честь «открытия Ватто».
Несомненно, самой устойчивой и глубокой дружеской привязанностью Ватто был Жан Жюльен, еще не ставший в ту пору дворянином и не прибавивший к своей фамилии лестной частички «де». К чести Жюльена надо сказать, что еще в молодости, собираясь стать художником, он, получив от Ватто отнюдь не лестный совет — отказаться от искусства, — нашел в себе мужество этому совету последовать. Такие поступки вызывают уважение. Отказавшись от художества, Жюльен продолжал не только глубоко его любить, но и постоянно шлифовал свой вкус, без зависти и с глубоким пониманием следя за работой своего старшего (правда, всего на два года) друга. Вероятно, Жюльен — в отличие от Ватто, натуры цельной, снедаемой единой страстью, — обладал талантами хоть и неглубокими, но разнообразными, свидетельством чему служит известная гравюра, сделанная уже после смерти художника гравером Тардье, весьма вероятно, по утраченной картине самого Ватто. Во всяком случае, и настроение, и точное композиционное равновесие, и мягкие ритмичные жесты персонажей позволяют верить в его авторство. На гравюре этой, что предшествовала изданию целой серии гравированных копий с Ватто, предпринятой Жюльеном, изображены оба друга в саду — художник с палитрой, Жюльен с виолончелью. Здесь можно всмотреться в черты благообразного лица Жюльена, отличающегося вместе задумчивостью и удовлетворенностью, густые брови и темные глаза красиво оттенены пудреным париком, он искренне наслаждается близостью друга, природой, музыкой, Ватто рядом с ним — олицетворение сплина и печальной сосредоточенности. Мраморная статуя в темных кустах словно отвернулась от них.
Если это и не копия, то весьма искусная вариация «на темы Ватто», снабженная внизу трогательной стихотворной надписью:
«Assis, auprès de toy sous ces charmans Ombrages,
Du temps, mon cher Watteau, ja crains peu les outrages;
Trop heureux! si les Traits, d’un fidelle Burin,
En multipliant tes Ouvrages,
Instruisoient l’Univers des sincères hommages
Que je rends à ton Art divin!»[35]
Заметим, однако, что в этой трогательной дружбе не было пустой фамильярности. В немногих сохранившихся письмах Ватто неизменно называет Жюльена на «вы» и обращается к нему не иначе, как «месье».
Натуры великие, как и натуры заурядные, нуждаются в бескорыстной преданности, но чаще встречаются с преданностью льстивой и расчетливой.
Сируа был, наверное, искренне привязан к Ватто, однако выгодно торговал его картинами. Келюс, которому мы обязаны самым подробным рассказом о жизни Ватто, Келюс, который постоянно пользовался его советами и прямой помощью, когда они вместе копировали рисунки в галерее Кроза, этот просвещенный дилетант, был, в конечном итоге, настолько самоуверен, что, зная о Ватто много драгоценных частностей, так и не сумел понять главного и даже заявил — впрочем, между вполне комплиментарными пассажами, — что «Ватто был чрезвычайно манерен». Жюльен же был от Ватто независим, он обладал состоянием и достойным положением среди процветающих буржуа. Он просто любил Ватто и восхищался им. Хочется думать, что это был тот самый друг, чье молчаливое присутствие могло поддерживать Ватто лучше, чем разговоры и утешения самонадеянных и менее сдержанных друзей. Может быть, именно эта внутренняя близость сообщила сравнительную сдержанность биографии, которую написал Жюльен спустя шесть лет после смерти Ватто. Он знал, видимо, слишком много, чтобы слишком много писать; люди менее близкие писали о нем подробнее.
Ватто продолжал дружить с де Ла Роком, который по-прежнему оставался для него примером кипучей деятельности и разнообразной жизни, от которой художник был достаточно далек. Через этих немногих известных нам людей Ватто, вероятно, общался и с другими, неизвестными нам, чьи имена не сохранило время.
Помимо старых друзей на его пути появляются и новые. В их числе зять Сируа, начинающий торговец картинами Франсуа Жерсен (единственный, к которому Ватто обращается на «ты», зная его, очевидно, с самых юных лет) и сосед по дому Ле Брена Влейгельс, человек, о котором известно не слишком много, во всяком случае недостаточно для того, чтобы понять, почему именно с ним решил поселиться под одной крышей Ватто.
Влейгельс тучен и полнокровен; он на шестнадцать лет старше Ватто — ему уже исполнилось пятьдесят — возраст для тех времен почтенный. При этом, судя по всему, он не блистал талантом, поскольку в Академию был принят лишь совсем недавно. Писал он в основном портреты, лестные и схожие, — некогда Влейгельс работал вместе с Миньяром и, не унаследовав от него артистизма и виртуозного суховатого мастерства, научился эффектно приукрашивать модели, что обеспечивало ему если и не восхищение коллег, то успех у заказчиков. Тем не менее впоследствии его судьба сложилась счастливо — он окончил жизнь на посту директора Французской Академии в Риме, той самой Академии, где совершенствовались художники, которым доставалась Римская премия, ускользнувшая в свое время от Ватто.