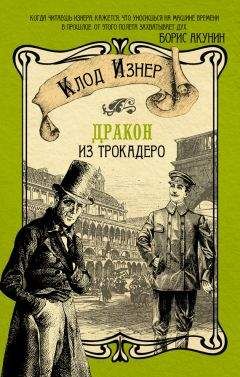Однажды к ней на дачу забрался вор. Вера Игнатьевна была одна, и тем не менее, когда внезапно вошла в комнату и увидела лихорадочно роющегося в шкафу человека, не испугалась. И не рассердилась. «Подождите! Я дам вам необходимое». Достала пиджак, брюки, ботинки, белье Алексея Андреевича. «А теперь уходите! Быстро! Муж вернется, он вас задержит». Потом, когда домашние и друзья потешались над ней, объясняла: «Он оборванный был, несчастный, голодный, наверное. Видно было, что до крайности дошел».
Доброта не переходила у нее в сентиментальность, отзывчивость — в приторность, в навязчивое участие. Когда надо было, она умела сдерживать свои чувства, быть спокойной и выдержанной в самых трудных обстоятельствах. Это умение опять пригодилось ей в конце 1938 года. В медицинских кругах снова поднялась волна недоверия к методам Замкова, и он болезненно переживал обвинения в «фельдшеризме».
Пытался быть философом. Писал в дневнике: «Все новые достижения, все новые успехи в терапии прежде всего ставились под подозрение и опорочивались, как не соответствующие нормам науки». Уже знал, что институт закроют, но до последнего дня старался не верить этому. Каждый день аккуратно начинал прием, каждому пациенту назначал срок следующей процедуры. «С восьми начинался прием в институте, — рассказывали его сотрудники. — Мы все приходили вовремя, иногда и раньше. Но как бы рано мы ни пришли, доктор Замков уже был на месте. Работал много, больше всех, работал с увлечением; даже стакан чая отказывался выпить: некогда, некогда!» [13]
Пациентов у него было много, в том числе и бесплатных: если кто-либо не мог заплатить за лекарство, Замков сам вносил за него деньги («Наполовину на его гонорар существовал институт», — говорила Вера Игнатьевна). Если же больной выздоравливал, то Замков так радовался, что был готов простить ему любой долг.
Как-то у него украли с вешалки пальто. «Как сейчас представляю его сердитый и смущенно-растерянный вид, — вспоминала сотрудница института Н. Григорович. — У него крали уже третье по счету пальто, и надеть ему было нечего. Оказалось, что это бывший инвалид с полупарализованными ногами и руками, которого Алексей Андреевич освободил от платы за лечение. Он стал хорошо ходить и решил „разбогатеть“: снял с вешалки два пальто и, надев одно на другое, ушел. По дороге его задержал милиционер. Мы решили не пускать больше вора в институт, но Алексей Андреевич заступился — уж очень хорошие результаты оказывал на него препарат, и опять принимал вора бесплатно» [14].
Через два дня после закрытия института (за эти дни перевез домой архив) Алексей Андреевич заболел — у него был тяжелый инфаркт. Долгое время было неясно, что пересилит — жизнь или смерть, и Вера Игнатьевна не отходила от его постели. Она горячо любила мужа, верила в его правоту, вместе с ним переживала падение института. До последней минуты, как святыню, хранила письмо, написанное Алексеем Андреевичем Всеволоду, — в случае его смерти она должна была передать это письмо сыну. «Учись, учись и больше думай о том, что учить. Жизнь — дело очень серьезное, и удается она лишь тем, у кого есть ум и сердце. Жить — значит быть среди людей, а быть среди людей — значит бороться. Это — борьба с пороками, с заблуждениями и предрассудками. Это борьба, не знающая конца. На этом поле битвы нет орудия лучшего, чем человеческий ум. И у него всегда лишь столько сил, сколько сердца. Развивай же их, совершенствуй, укрепляй и подготовляй их, а для этого учись…» [15].
Замков проболеет больше года. Впоследствии, работая лечащим врачом в поликлинике для слепых, откроет частные приемы, и у него опять будут успехи и пациенты. Но никогда больше его работа не достигнет такого размаха, как во время существования института. Он и не будет обманывать себя: что прошло, то прошло. Ему не удалось выиграть дела своей жизни и уже не удастся — годы идут к шестидесяти. С этого дня он уже не будет претендовать на многое, да и обстоятельства будут складываться не в его пользу. Но, подводя итоги, он сможет написать о себе достойные слова: «Я работал не для славы, у меня нет тщеславия, чтобы соперничать с другими. Мое единственное желание — исполнить все, что в моих силах. Я хочу помочь там, где чувствуется наибольшая нужда. Я получил немного знаний и чувствую, что обязан передать их своей родине» [16].
Как только жизни Алексея Андреевича перестала угрожать опасность, Вера Игнатьевна снова принялась за работу: приняла участие в конкурсе на памятник Алексею Максимовичу Горькому. (Кроме нее в конкурсе участвовали Шадр, Матвеев, Домогацкий, Королев, Грубе, Николадзе, Блинова, Меркуров, Манизер. Предполагалось установить три памятника Горькому — в Москве, в г. Горьком и в Ленинграде.)
Работала с увлечением. Считанные встречи с Алексеем Максимовичем в дни работы над памятником Максиму крепко осели в ее памяти. Он произвел на нее впечатление настоящего художника, «гиганта», «очень большого человека, очень знающего».
Таким, каким он поразил ее в домашней обстановке, она первоначально и хотела его представить. Очень простым и скромным, в грубом москвошвеевском костюме, в вязаном шерстяном свитере. С неизменным спутником — книгой, по его словам, «одним из величайших и таинственных чудес на земле… быть может, наиболее сложным и великим чудом». Тем более что и отвлеченно образ писателя ассоциировался с книгой.
Вылепила и убедилась: ошибка. Нет, память не подвела: и худая угловатая фигура, и характерное, «топором рубленное» лицо, и шея с проступающими старчески набухшими жилами — все было передано точно. Ошибка крылась в камерности звучания образа, в домашней одежде; с раскрытой книгой в руке Горький воспринимался не как великий революционный писатель, а как старик книголюб.
Тогда Мухина решила сделать большой ансамбль, в который войдет и фигура Горького и герои его книг. Сам он поднимется над городом на высоком постаменте (хорошо бы на этом постаменте высечь гусиное перо); у подножия его будет лежать Данко с горящим сердцем в руке; на подходе к статуе, на большом камне она поместит взлетающего к небу буревестника.
Москва? Манежная площадь? Заманчиво, конечно, но… и только. Идея памятника, в котором все было связано с юностью Горького, определила и его местоположение. Ансамбль просился в город, в котором писатель родился и вырос, город, названный его именем. Сергей Замков (он разрабатывал архитектурное решение ансамбля) предложил ориентироваться на высокий, обрывом спускающийся к реке берег. Почти от самой воды будут подниматься к памятнику белые марши лестниц.
Торжественность архитектуры требовала лаконизма в скульптурном ансамбле. И Мухина Скрепя сердце отказалась от фигуры Данко. Взамен нее решили высечь две каменные скамьи: они не будут привлекать к себе внимания и помогут сделать монумент живой частью города: здесь можно будет сидеть, отдыхать, смотреть одновременно и на него и на Волгу.
Главная работа для Веры Игнатьевны была связана с фигурой писателя: если в ней не будет создан образ, то не поможет никакая архитектура. Она лепит Горького таким, каким его знал Нижний Новгород: в косоворотке, смазных сапогах, с откинутыми назад длинными волосами. И в то же время всячески подчеркивает в нем черты, сделавшие его «буревестником революции».
«Одним из основных качеств, определяющих значение писателя, кроме таланта, является степень его гражданственности, — писала Мухина. — Ею в высшей степени обладал Горький: он не был созерцателем жизни! Страстная, боевая активность отношения к ней — один из основополагающих элементов горьковского миропонимания».
Эти строчки были напечатаны в «Литературной газете» и считаются каноническими. И все-таки стоит, оторвавшись от них, вчитаться в рукопись, еще не прошедшую редакторской правки. «Он был не только созерцателем жизни, — написано в ней, — но, как никто, умел возбуждать людскую совесть. Он умел обличать зло и несправедливость, он был руководитель и учитель» [17]. Возможно, в этих словах не так точно и ярко аттестован Горький, но зато они кое-что прибавляют к характеристике самой Мухиной: гражданственность она понимала как обличение несправедливости и сражение за добро, как совесть и учительство.
Эту идею она и старалась выразить в фигуре писателя — постоянную готовность бороться за доброе, взыскующую совесть, не позволяющую мириться со злом и лицемерием. Внимательные, грустные и чуть усталые глаза словно освещают лицо, в их свете даже морщины кажутся красивыми. Не потому ли, что за внешней суровостью в этом лице чувствуются доброта и душевная отзывчивость? «Мне хотелось, — говорила художница, — чтобы боль за попранное человеческое достоинство сквозила в его суровом лице, в глазах, устремленных вдаль, в сжатом кулаке, сдерживаемом другой рукой. Он — как натянутая струна, он сам — дитя назревающей бури…»