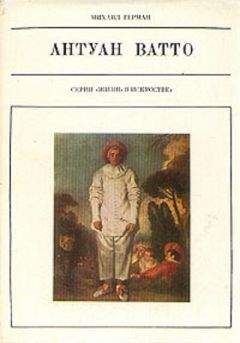При этом движение состоит из нескольких более частных связей. Зрительный дуэт между начинающей танец дамой и юношей в красном в правом углу картины, центральной группы во главе с героем, двух соединенных движениями или взглядами пар. Ватто не боится пустоты — лужайка на первом плане свободна от фигур, зрительский взгляд вольно и легко входит в картину, где ему просторно и где тонкий расчет художника осторожно и безошибочно указывает ему дорогу.
Оказывается, нарочитую и заведомо искусственную мизансцену можно написать легко и свободно, отыскав ее очарование среди пустяковых и надоевших условностей.
Опять-таки не худо вспомнить, что не Ватто дал название картине, что прямой насмешки здесь не сыскать. Конечно, здесь есть ирония. Но у Ватто она есть везде.
Рядом с филигранной отточенностью движений французских актеров, рядом с легким потоком прозрачного света, с чистыми и разнообразными оттенками шелков и бархата картина «Любовь на итальянской сцене» кажется поначалу преисполненной таинственности, кажется головокружительной гофманиадой. Густой мрак, разорванный светом единственного факела и едва заметным мерцанием маленького фонаря, пляшущие на лицах тени, придающие им неожиданное выражение, фигуры в глубине, которые скорее угадываются, чем могут быть увидены, странные маски, синкопированный ритм естественных, но как бы гиперболизированных жестов — это, конечно, — во всяком случае на первый взгляд — иной мир, иное искусство, совсем иной театр.
Или, может быть, другая пьеса?
Так ли уж отличается актриса в центре предыдущей картины от этой красавицы в шелковом, в узкую полоску, платье, уже чуть приподнятом, чтобы начать танец под аккорды гитары стоящего рядом Жиля? И так ли трудно угадать в господине, держащем факел, того актера, что был одет в черный костюм, — опять-таки на предыдущем полотне. А справа с палкой, в черной скуфейке, опираясь на неизменную трость, стоит наш старый знакомый (возможно, знаменитый Ла Торильер), стоит так же в профиль, как на эрмитажной картине. Нет здесь прямого противопоставления и, главное, нет решительного осуждения французского театра и возвеличивания итальянского, в каждом есть своя прелесть, ведь и одно и другое — театр серьезный и великолепный, до последней тонкости ощущаемый Ватто.
«Любовь на итальянской сцене» — парад традиционных масок.
В самом центре, защищая глаза от слепящего факела, — Арлекин, он в легком, почти танцевальном движении, одном из тех продуманных и отточенных веками движений, которые хоть и повторялись сотни раз, в каждом спектакле импровизировались заново. Здесь Арлекин — герой XVIII века. Первые Арлекины, знакомые французам, были персонажами совсем иными, выполняя на сцене роли наивных и недалеких слуг — дзанни, одетых в жалкую одежду, единственным украшением которой были разноцветные заплаты. И только современник Мольера блистательный Доменико Бьянколелли создал своего, нового Арлекина, хитрого и остроумного, бесстрашного и элегантного, и превратил лохмотья в пестрый красивый костюм, в котором о заплатах напоминали лишь яркие, разноцветные треугольники, составлявшие ткань его одежды. Рядом с Арлекином Пьеро или Жиль с гитарой, лукавые лица Розауры и Коломбины, Ла Торильер, очевидно, в роли Панталоне.
Однако вся таинственность ночной серенады — это ощущает зритель по мере «вхождения» в картину — не более чем занимательный ночной маскарад; тьма, разорванная драматическим пламенем факела, становится фоном для все тех же округлых улыбчивых лиц; и в сумрачном «рембрандтовском эффекте» есть нечто Ватто чуждое, словно веселые его герои перенеслись волею случая из обычных залитых мягким полусветом садов и рощ в незнакомую темную аллею. Хотя написано все это мастерски: света, блики, тусклые отблески в глубине, движение теней и снова эти улыбки, словно чуть-чуть испуганные окружающей тьмой.
Но что в самом деле поразительно в картине, это атмосфера естественного общения актеров, при сохранении собственной индивидуальности: каждый из них уверен в плавном течении и спектакля, и своей роли, общность персонажей не мешает их независимости, в то время как актеры французские, подобно балетным танцорам, находят выразительность лишь в продуманной единой мизансцене. В предисловии к сборнику итальянских пьес, изданном в 1721 году, его составитель Герарди написал словно о картине Ватто:
«Тот, кто говорит „хороший итальянский актер“, тем самым сказал, что этот актер обладает глубиной, играет больше с помощью воображения, чем с помощью памяти; что он, играя, придумывает все то, что говорит, что он умеет вторить тому, вместе с кем он находится на сцене, другими словами, что он хорошо сочетает свои слова и действия со словами и действиями своего партнера, что он немедленно вступает во всякую игру и во все движения, которых требует другой, так что все верят, будто они заранее все согласовали». И далее он восхищается «подлинными актерами, теми прославленными артистами, которые заучивают истину наизусть, но так же, как знаменитые живописцы, умеют искусно скрывать свое искусство и чаруют зрителей красотой своего голоса, правдивостью жестов, точностью и гибкостью интонаций и неким изяществом, свободным и естественным, которое сопровождает все их движения и распространяется на все, что они произносят».
Слова современника и профессионала лучше, чем рассуждения человека XX столетия, свидетельствуют в пользу проницательности Ватто. Заметим, что он — скорее всего интуитивно — выбрал ночь, пору, когда на смену отчетливым очертаниям приходят подвижные пятна света, трепещущие тени, когда определенность поз уступает место угадываемым движениям, словом, художник ищет динамику, отказываясь от статики. Он знает Рубенса, этого гения барокко, умевшего, как никто, с помощью подвижных теней и ярко освещенных плоскостей воссоздать мир, перенасыщенный движением. Он знает, что тьма, скрывающая фигуры то полностью, то лишь отчасти, густые тени, как бы отсекающие куски лица или руки, помогают именно домыслить жест, предугадать, представить его себе. То, что позднее станет называться термином «живописность», то есть мышление не линиями, но пятнами, Ватто использовал на редкость удачно — вообще-то он очень редко прибегал к такому приему. И именно романтическая недоговоренность ночного представления позволяет ощутить его импровизационность, естественность, о чем так точно сказано у Герарди.
Но повторим еще раз: плохо верится в явное предпочтение Ватто по отношению к итальянцам. Если вглядеться как следует в эти две картины, то нельзя не согласиться, что при всей своей нарочитой церемонности «Любовь на французской сцене» ближе к «галантным празднествам» Ватто, нежели ее «итальянский пандан». Ватто всегда любил, усмехаясь, но и усмехаясь — любил и восхищался на свой скептический лад.
Тем более интересна его, написанная очевидно позже, картина, которую принято считать едва ли не пародийной, картина, обычно называемая «Актеры французского театра».
Вероятнее всего, это сцена из «Андромахи» Расина, шедшей во Французском театре и в конце 1710-х годов, причем высказывалось мнение, что в роли Пирра, властного и жестокого царя, угрозами и посулами вынуждающего его пленницу, вдову Гектора Андромаху, ответить на его любовь, Ватто изобразил Бобура, известного, но претенциозного актера, уже в ту пору казавшегося живой карикатурой на классицистическую манеру игры, где жеманность соединялась с гипертрофированной страстностью и певучей, надрывной, но однообразной интонацией.
Действительно, здесь собрано все, что казалось нелепым и безнадежно устаревшим художнику, знакомому с игрой великого Барона и только что начавшей выступать на тех же подмостках двадцатипятилетней Адриенной Лекуврер: декорация в духе дворцовых залов конца XVII века («Сцена должна быть великолепна», — писал за сто лет до Ватто декоратор Бургундского отеля Маэло); придворный костюм Бобура с претензией на античность — закрытый кафтан с подобием парчовой кирасы на груди; экзальтированная мимика Андромахи; носовые платочки в руках рыдающих Феникса и Сефизы…
И все же не хочется воспринимать картину столь уж однозначно. Ватто не любил осмеивать просто так, он непременно отыскивал нечто привлекательное и в забавном, а подобные спектакли в ту пору понемножку начинали становиться историей; и в усмешке художника поневоле появлялась элегическая нота, точное ощущение совершенной законченности умирающей напыщенной стилистики.
Это прекрасно почувствовали Гонкуры, знатоки и великие (даже не всегда объективные) почитатели Ватто, люди, заново открывшие восемнадцатый век и любившие в нем все — от мыслей, идей и искусства до самых поверхностных его атрибутов.
«Так много писалось о трагедии, великой трагедии великого века[37]. И все же нигде о ней так не сказано, нигде не дано такого ее образа, как на прекрасной гравюре[38] Ватто „Актеры французского театра“.