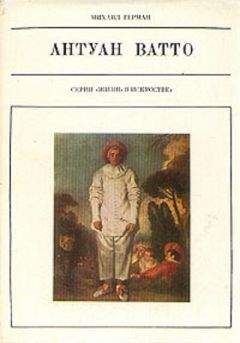Картина романтична в самом тривиальном смысле слова: вечерний сад, томный певец с гитарой на скамье, выверенная эффектность жестов, поднятые к небу глаза. Это самый первый, поверхностный «слой» картины[41].
Но почти одновременно с первым впечатлением взгляд зрителя попадает в плен пластического и цветового построения. На диво прорисованный силуэт комедианта, где контуры рук, бедер, ног, даже щегольских туфель, чудится, проведены единой, стремительной линией, завязанной в напряженный, точно продуманный узел; гитара, посылающая будто слышимые аккорды, так красноречиво движение только что оторвавшихся от струн пальцев; наконец, цветовая гамма, где традиционный костюм Мецетена в розовато-сиреневую полоску светится холодным светом в теплом сумраке сада, — все это вызывает ощущение контраста — контраста между банальностью персонажа и значительностью искусства — вещь для Ватто обычная, но всегда удивительная для зрителя.
Однако и этот второй этап проникновения в картину не исчерпывает всей ее сути, более того — холст способен вызвать ощущение некоторой растерянности, настолько много несхожих ассоциаций одновременно возникает у смотрящего на него человека. Так бывает, когда лицо или даже вещь, многократно отраженная в нескольких зеркалах, будто сосуществует одновременно в разных и несходных аспектах, оставаясь сама собой, но представая при этом в неожиданных, часто забавных поворотах.
Печаль влюбленного выражена в настолько продуманной жестикуляции, в настолько точной мимике, что, чудится, настоящее душевное движение полностью исчезает, растворяется в заботах об этой совершенной выразительности. Актер — или это не актер, а просто человек в костюме Мецетена, поющий серенаду, — показал свои эмоции с такой окончательной выразительностью, с такой элегантной страстностью, что нетрудно представить себе его душу и в самом деле совершенно опустошенной. Он один в саду — или на сцене, и это одиночество заставляет забывать о театре, и получается, что актер если и играет, то самого себя. И тогда нечто жалкое видится в нем. И мраморная статуя, безучастно отвернувшаяся от певца, вносит в картину ноту уже самой настоящей, щемящей печали, будто комедиант не знает, играя, что реальность, ему неведомая, но пережитая художником, горька и на самом деле безысходна.
Чем меньше оснований предполагать, что Ватто сознательно раз от разу усложнял душевное состояние своих героев и собственное к ним отношение, тем больше оснований думать, что это усложнение отвечало его собственному трудному душевному состоянию.
По сути дела, уже много лет он пишет сюжеты почти одинаковые, вероятно, не только в силу профессиональной к тому склонности. Ему заказывают картинки с изображением все тех же персонажей, и его кисть без принуждения возвращается к любимым героям. Однообразие тем и ситуаций открывает перед действительно большим мастером возможности непрерывного углубления в самого себя, сегодня мы сказали бы — возможности рефлексии. Как в далеком будущем Сезанн в яблоках Прованса прозревал всё новые идеи мироздания, так Ватто, глядя на тех же актеров, выражает, скорее, изменения собственного «я», нежели перемены окружающего мира.
Трудно предположить, что художник, писатель, поэт первой четверти XVIII века мог сознательно формулировать те задачи, с реализацией которых мы сталкиваемся в картинах Антуана Ватто. Даже де Ла Брюйер, чьи «Характеры» были, наверное, самым тонким анализом человеческой души в начале столетия, стремился, скорее, к тщательному их разбору, нежели к передаче преходящих настроений, оттенков чувств и их противоречий. Он многое замечал: «Люди в одно и то же время открывают душу мелким радостям и позволяют брать над собой верх мелким горестям: в природе нет ничего, что могло бы сравниться в непостоянстве и непоследовательности с их умом и сердцем. Исцелиться от этого можно, лишь познав истинную цену житейских благ».
Вывод дидактичен, хотя рассуждение весьма тонко. И все же де Ла Брюйер далек от представления о синтетическом образе мыслящего и чувствующего человека, его разум не ищет ассоциативности. «Страсти их противоречивы, слабости взаимно исключают друг друга». Это разумнейшее замечание — всецело в русле мышления человека XVII века, но не века Ватто, или, скажем точнее: не в русле искусства Ватто. У его персонажей нет противоречивых качеств, сами противоречия, сама неустойчивость настроений — суть основа их характеров.
С видением Ватто перекликается, скорее, не восприятие его современников, но иные страницы Монтеня, вряд ли ему знакомого. Впрочем даже если бы наш художник Монтеня читал, то трудно представить себе, что он стал бы им руководствоваться. Но любопытно, что два эти человека, в разные времена жившие, два человека разной судьбы — мудрый и образованнейший философ и художник, склонный более всего опираться на импровизацию, интуицию, — порою были чрезвычайно близки друг другу. Ватто мог бы повторить слова Монтеня: «…кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее поворачиваю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек. Тут происходит какое-то чередование всех заключенных во мне противоположностей. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе нахожу, в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе простого, цельного и устойчивого, я не могу сказать о себе единым словом, без сочетания противоположностей. Distinguo[42] — такова основная предпосылка моего логического мышления».
Заметим, что, в отличие от великого мыслителя, Ватто переносил свою душевную сложность лишь на персонажи своих картин, немногие же автопортреты почти начисто лишены этой сложности.
Ватто не обладал той нравственной отвагой, которая необходима для самопознания, он был болезненно замкнут, и если писал автопортрет, то ничуть не старался идти дальше чисто внешнего впечатления. Известнейший из них, сохранившийся в гравюре Буше, не обладает и сотой долей богатства душевных движений, которыми так щедро наделяет мастер героев своих картин. Разумеется, гравюра Буше не передает всех оттенков выполненного самим Ватто портрета, но можно судить о нем с достаточной определенностью. Он обладает несомненной и безжалостной точностью в передаче сходства, Ватто себе не льстил, и даже вежливый резец Буше не исправил положения. Ватто на гравюре печален, смущен, хороши лишь огромные, распахнутые навстречу миру глаза, лицо же худое и некрасивое, с длинным вислым носом, нелепо противоречит обычной для автопортретов элегантной позе, живописным кудрям парика и отменно прорисованным складкам кафтана. И церемонные стихи Морэна под гравюрой еще более подчеркивают, как чужд живой Ватто этому своему столь приблизительному подобию:
«Watteau, par la Nature, orné d’heureux talants
Fut très reconnoissant des dons, qu’il reçut d’elle:
Jamais une autre main ne la peignit plus belle,
Et ne la sçut montrer sous des traits si galants».[43]
Нельзя утверждать, что Ватто не хотел открыться зрителю — раз уж он брался за портрет, то не для того, чтобы собою любоваться, но, глядя в зеркало, замыкался и подгонял выражение собственного лица под привычные лики официальных портретов. И лишь нотка элегической грусти отмечала их, будто Ватто не мог утаить ни от себя, ни от других усталости и ощущения слишком быстро уходящей жизни.
…Сложность и «странность» его персонажей все же, видимо, не рождались сразу в его воображении. Обладатель сказочной фантазии, он питал ее адским ежедневным трудом: судя по количеству сохранившихся рисунков, а сохранилось, естественно, далеко не все, он отдавал рисованию долгие часы, не пропуская ни одного дня. Помимо рисунков, которые делались во имя их самих — штудии обнаженной натуры, например, — он делал множество набросков к картинам, причем для позы одного персонажа рисовал с дюжину разных ракурсов. Такие рисунки бесчисленны: головки дам, профили, этюды драпировок, отдельные рисунки рук. И только один из множества вариантов входил потом в картину, в картину, в которой так трудно угадать, сколь долог был путь к ее окончательному решению.
Ведь глядя на картины Ватто, восхищаясь композиционным его даром, его умением создавать феерические, словно в одно мгновение сымпровизированные образы, трудно поверить, что каждый жест, каждый поворот головы, каждая складка — плод жесткого аналитического труда.