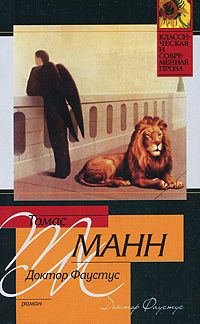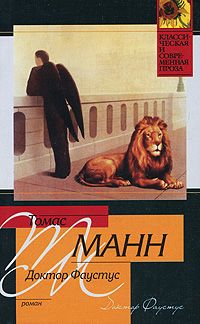Примерно в то же время У. С. Хэнди и его бизнес-партнер Гарри Пэйс затеяли в Нью-Йорке еще одну звукозаписывающую фирму — Black Swan Records. Чтобы привлечь побольше клиентов, они писали в своих рекламных проспектах, что в остальных фирмах «чернокожие артисты только прикидываются таковыми». На какое-то время блюзовый бум, вызванный популярностью композиции Crazy Blues Мэйми и Уилли Лайона Смитов, позволял им сводить концы с концами, но через три года компания обанкротилась. Возможно, Хэнди и Пэйса уличили в том, что как раз они-то и записывают белых музыкантов под придуманными «черными» именами. Но скорее всего, из них просто получились никудышные бизнесмены.
* * *
И регтайм, и навелти были достаточно авторитарны — в этих стилях количество музыкальных форм и жестов было строго ограниченно. Другое дело джаз — музыка невероятной центробежной силы, все время старающаяся расширить собственные границы. Следующие поколения ритмизаторов использовали это свойство джаза по полной, их пальцы носились по клавиатуре стремительным, безрассудным вихрем.
Джазовые пианисты переняли резвую поступь регтайма и буги-вуги и насытили ее абсолютно земными, человеческими эмоциями. Внезапно выяснилось, что музыка может, например, подмигивать слушателю, а то и вполне откровенно флиртовать с ним прямо во время исполнения. Писательница Юдора Уэлти запечатлела это в своем рассказе «Локомотив», посвященном Томасу Фэтсу Уоллеру (1903—1943): «Он играет на износ себя, инструмента, даже стульчика, на котором сидит. Каждый миг в движении, буквально до неприличия. Вот он со своей огромной головой, толстым животом, маленькими круглыми ножками и сильными пальцами желтоватого отлива, каждый размером с банан. Конечно, вы знаете, как он играет, вы слышали его записи, но этого мало — его нужно видеть. За фортепиано он будто на катке или в лодке… Он кладет руку на фортепиано, словно прорицательница, открывающая одну из своих книг. Локомотив невероятен — все впадают в забытье».
Фэтс Уоллер. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет
Уоллер и его близкие друзья Джеймс П. Джонсон и Уилли Лайон Смит образовали своего рода триумвират лидеров мощной гарлемской школы страйда. Лев (получивший это прозвище благодаря своим подвигам во время Первой мировой войны) придумал клички и для коллег: «наивный и простодушный» Джонсон стал у него Зверюгой, Уоллер — Развратником. Они были не разлей вода, и выступление каждого неизменно оказывалось гвоздем программы во всех расово демократичных заведениях (которые светский хроникер Уолтер Уинчелл называл «коричневыми притонами»), а также на благотворительных «квартирниках», где фортепианная игра потихоньку выходила на новый уровень виртуозности. «В итоге мы ночи напролет курсировали по Пятой, Седьмой и Леннокс-авеню и колотили по клавишам где придется, — вспоминал Смит. — У нас даже был свой агент, старина Липпи Бойетт… В отдельно взятую субботу он мог зарезервировать под нас три вечеринки сразу, и мы вынуждены были распределять их между собой».
Это дружеское соперничество побудило каждого из музыкантов выработать свой собственный артистический стиль. «Я обычно зажимал во рту сигару, — рассказывал Смит, — надевал набекрень котелок, перекрещивал колени и наклонялся так, что моя спина оказывалась под углом к спинке стула. Я то ругался на фортепиано, то, наоборот, расточал ему комплименты; согласитесь, шептаться, ссориться и вообще общаться с инструментом — это весьма оригинально!» На вечеринках собиралась разная публика, от «клерков в униформах» до водителей грузовиков, игроков в азартные игры и эстрадных артистов. Но ничто не могло сравниться со светской публикой на Парк-авеню, куда троих пианистов стали часто приглашать после того, как они сдружились с композитором Джорджем Гершвином.
Уилли Лайон Смит и Дюк Эллингтон. Институт джазовых исследований, Ратгерский университет
Гершвин был завсегдатаем гарлемских клубов и искренне восхищался мастерством тамошнего фортепианного триумвирата. Он замолвил за музыкантов словечко перед своими знакомыми, и те тоже стали периодически эксплуатировать их таланты в собственных заведениях. Впрочем, далеко не всегда все шло гладко. Обожание было даже чрезмерным, на трех пианистов смотрели как на диковинных заморских птиц. «Мы чувствовали себя как проститутки, у которых берет интервью начинающий репортер», — признавался Смит. На одной особенно модной вечеринке, которую в 1924 году устроили в честь премьеры гершвиновской Rhapsody in Blue, музыканты отлучились в бар, а сам Гершвин в это время по привычке уселся за фортепиано. Это рисковало растянуться на всю ночь — однажды композитор вслух задался вопросом, будет ли его музыка по-прежнему исполняться через сто лет, и его друг Оскар Левант пробормотал в ответ: «Конечно, будет, если ты сам еще будешь жив». Поэтому в какой-то момент Льву пришлось взять дело в свои руки: «Я подошел и сказал Гершвину — слушай, слабак, слезай-ка со стула и пусти наконец настоящих музыкантов поиграть». Добродушный композитор лишь улыбнулся и повиновался. Ничего удивительного — Смит с Гершвином были на короткой ноге: оба выросли в одном и том же окружении, а Лев к тому же в юности выучил идиш, когда работал в еврейской лавке. К концу жизни он принял иудаизм и устроился кантором в гарлемскую синагогу.
Визитная карточка Уилли Лайона Смита
Что рассказал мне о страйде Уилли Лайон Смит. Майк Липскин
Левая рука в страйде — это фактически автономная фортепианная ритм-секция, необходимая в отсутствие бас- и ритм-гитар, которые в те годы еще не получили распространения. Название стиля представляется несколько неполным — в нем отражено лишь то, что левая рука пианиста постоянно «шагает» от низкого регистра к среднему и обратно. Но на самом деле страйд — это целый музыкальный язык, в котором существует набор выразительных приемов: риффов, характерных созвучий, смешанных размеров, таких, например, как 3/4 или 6/8 в чередовании с 4/4.
Левая рука может играть отдельными нотами, октавами, децимами с дополнительными внутренними тонами в созвучии или арпеджио, как восходящими, так и нисходящими. Допускаются и ритмические сдвиги: например, подчеркивание первой и третьей долей вместо привычных второй и четвертой. В левой руке может быть своя динамика — свои периоды напряжения и разрешения, длящиеся по несколько тактов. Все это в сочетании с хитроумными мелодическими импровизациями в правой руке происходит в сопровождении мощного, свингующего ритма.
Вдохновившись Джеймсом П. Джонсоном или Фэтсом Уоллером и впервые попробовав сыграть страйд, чувствуешь себя человеком, который только что разобрал на части свой автомобиль, и вот детали беспорядочно лежат на полу, а тем временем кто-то проносится мимо на «феррари». Недостаточно просто послушать, как играют мастера, придется практиковать соответствующую манеру несколько лет, пока наконец пианист перестанет задумываться о каждой сбивке в левой руке и научится улавливать логику этой музыки на уровне целых партий и аккордных последовательностей.
И зачем только некоторые пианисты так фокусируются на скорости, стремясь при исполнении композиции Джеймса П. Джонсона догнать и перегнать его самого, словно опаздывая на поезд? Звучание всегда получается зажатым, механистичным. Требуется время и изрядные усилия для того, чтобы освоить все элементы стиля. Зато когда слышишь настоящий страйд, то понимаешь — это пик развития джазового фортепиано.
В любых конкурсах на лучшую джазовую импровизацию Смит, Джонсон и Уоллер всегда выходили победителями, до тех пор пока в Нью-Йорк из Толедо, Огайо, не приехал в качестве аккомпаниатора певицы Аделаиды Холл почти слепой пианист. «Татум! Его невозможно имитатум!» — написал о нем критик Барри Уланов. Конечно, речь шла о великом Арте Татуме (1909—1956), чья поистине пиротехническая игра на фортепиано приводила других музыкантов одновременно в восхищение и уныние.
«Я умел делать двойные глиссандо в секстах и двойные тремоло тоже, — хвастался Джеймс П. Джонсон. — На конкурсах все остальные лабухи просто отказывались выходить играть после меня… Мне хватало минуты, чтобы придумать новый трюк… Я мог, например, играть мощный стомп[56], затем смягчить его и вдруг в мгновение ока сменить тему; я подслушал этот прием у Бетховена в одной из сонат. А однажды я использовал парафраз на тему „Риголетто“ Листа как вступление к стомпу». Но для Татума все это было детским лепетом.