Маковский был художник-любитель, деятельнейший участник создания Московского художественного класса. У него была прекрасная коллекция гравюр, прелестная жена Любовь Корнеевна и много детей. Доброе радушие и милая безобидность хозяина делали жизнь в его доме веселой и приятной. Брюллов пленился очаровательной Любовью Корнеевной, к тому же премило певшей, и начал ее портрет. «Я не окончил портрет вашей жены, — говорил он Маковскому, — чтобы иметь случай возвратиться в златоглавую». К хозяйке он питал рыцарско-нежные чувства. Когда перед отъездом он сделает рисунок — отъезжающий рыцарь и Дульцинея, — то все общие знакомые сочтут, что он изобразил себя и Маковскую. Нежные чувства Брюллова к ней так разрослись в предании семьи Маковских, что художник Константин Маковский считал себя сыном Брюллова, чего быть никак не могло, ибо он родился в 1839 году, а Брюллов, уехав из Москвы тем летом 1836, больше и не бывал там…
Погостивши у Маковских, Брюллов перешел на житье к скульптору Ивану Петровичу Витали. Однажды стукнул дверной молоток, и в дом вошел одетый без церемонии, даже чуть небрежно, небольшого роста человек с характерным, чуть восточным профилем, толстыми губами, быстрыми глазами на подвижном, всякий миг меняющемся лице, обрамленном белокурыми кудрями. Брюллов, еще не успел гость произнести имени, тотчас узнал его — на портрете Тропинина Пушкин вышел так живо и схоже. Пушкин поселился у друга своего Нащокина, который знал о всех шагах Брюллова, и поэт тотчас явился с визитом — приехал в Москву 2 мая, а в письме от 4-го сообщает жене о том, что уже был у Брюллова. С того дня и до самого отъезда Брюллова из Москвы они видались постоянно, много говорили. Говорили обо всем. Вот где узнавал Брюллов Россию, вот где звучало для него общественное мнение. Прав, очень прав был Николай Тургенев, говоривший, что «в деспотической стране, как Россия, где пресса заглушена цензурой, судить об общественном мнении можно только из разговоров, знания фактов или из рукописной литературы». Пушкин мог доставить Брюллову и одно, и другое, и третье. Да и Пушкину говорить с художником было легко и интересно. Чуткий собеседник, схватывающий мгновенно глубокую суть сказанного, он, по словам многих современников, «чудно изъяснялся по-русски». Уж на что строгий и тонкий ценитель языка, Гоголь, и тот, когда встретит в конце жизни Железнова, ездившего в последнее путешествие с Брюлловым на Мадейру, первым делом спросит его, не утратил ли Брюллов в болезни своего редкого дара выражаться сочно, метко и образно. Столь пристрастного к родному языку человека, как Пушкин, не мог не подкупить этот дар Брюллова. К тому же художник изрядно знал поэзию, особенно итальянскую, мог сыпать целыми тирадами из Данте, Тассо или любимого своего Петрарки. Пушкину очень по душе были работы художника. Он тотчас загорелся мыслью, чтобы тот написал портрет Натальи Николаевны. «Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного! невозможно, чтобы он, увидев тебя, не захотел срисовать тебя», — пишет он жене.
Художник и поэт часами говорят о живописи, о словесности российской, об отечественной истории, о Петре. Пушкин, одержимый сейчас насущнейшей для русского искусства идеей народности, делится с художником своими соображениями. Поэт сетует, что говорят об этой проблеме много, и подчас кто попало. Но никто не думает всерьез определить, что же такое истинная народность. Творцы официальной, правительственной идеологии, видя и понимая популярность этого термина, тоже не обошли его своим вниманием. Когда в 1832 году в Воронеже были «открыты» мощи святого отца Митрофания, епископ произнес благодарственную молитву, в которой просил «у Христа, бога нашего» возродить «дух веры и благочестия». Обращение к богу было и близко, и свято народным массам. И вот министр просвещения граф С. Уваров, который едва ли всерьез верил в бога или прогресс, подхватывает эту идею и, желая примирить все и вся, угодить и царю, и этим литераторам, и народу, вырабатывает свою печально знаменитую триаду: самодержавие, православие, народность. Отныне для ретроградов эта триада становится основой воспитания верноподданнического духа. Конечно, в кругу Пушкина иначе как с иронией и не трактовали этого «спасительного» рецепта народности. Но не ближе к истине были и те, кто считал, что народность — это значит выбирать сюжеты из отечественной истории. Куда ж тогда девать Шекспира, ужели ж он не народен, не национален, — говорил Пушкин. Были еще и такие, кто довольствовался «видеть народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения», — иронизировал Пушкин. Он же сам думал совсем иначе: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию — которая более или менее отражается в зеркале поэзии. — Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и поверий, и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу», — с жаром говорил поэт. Брюллов, слушая Пушкина, убеждался, как напряженно живет, как серьезно раздумывает над насущными проблемами мыслящая Россия, видел, что после долгого отсутствия и ему необходимо приобщиться к «образу мыслей и чувствований» сегодняшней России, ибо без этого творчество самого одаренного человека мертво…
Жене Пушкин сообщает, что Брюллов ему «очень понравился», что «он настоящий художник и добрый малый». Еще пишет, что Брюллов боится «русского холода и прочего», а пуще всего «неволи»… «Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры… Что же теперь со мною будет?.. черт догадал меня родиться в России с душою и талантом! Весело, нечего сказать», — завершал он свое письмо.
Раз коснувшись больной темы — положения человека искусства в николаевской России, — возвращались к ней беспрестанно. Пушкин рассказывал, как десять лет назад, взошедши по колено в крови на престол, Николай вернул его из ссылки: «Фельдъегерь подхватил меня из моего насильственного уединения и на почтовых привез в Москву, прямо в Кремль, и всего покрытого грязью меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: — Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?» А после царь спросил, принял ли бы поэт участие в восстании декабристов, если б был в Петербурге. «Непременно, государь, — хватило смелости у поэта на такую опасную правду, — все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю бога…» Себе самому он ответил на этот вопрос, когда на черновике «Полтавы», рядом с рисунком виселицы с пятью повешенными написал: «И я бы мог…» Когда же Пушкин пожаловался царю на цензуру, тот ответил, что вовсе освобождает его от общей цензуры, что он сам будет отныне цензором поэта… Слушавший поэта Брюллов не знал еще, что такая же участь ждет и его — ему вскоре по приезде в столицу царь тоже велит приносить на просмотр все написанное…
Пушкин с горечью рассказывал о том, в какой неволе держит его нынешний царь. В 1828 году просился в действующую армию на Кавказ — не разрешили. Просился съездить в Париж — не пустили. А когда он все же сам рискнул в следующем году побывать на Кавказе — какое унизительное объяснение пришлось писать по этому поводу Бенкендорфу! В 1830 году просился сопровождать посольство в Китай — опять отказ. В Полтаву — опять запрет. Наконец, в прошлом году обратился к царю с прошением года на три-четыре уехать к себе в деревню — так и на то не дано высочайшего дозволения. В такой малости — опять утеснение свободы. Вот Петр I «не боялся народной свободы, ибо доверял своему могуществу», — так говорил Пушкин, и Брюллов соглашался с ним: да, действительно, многие меры пресечения нынешнего николаевского правительства проистекают от слабости, от неуверенности в себе. Да и откуда взяться уверенности, если даже Бенкендорф называет крепостное право «пороховым погребом под государством, вот-вот готовым взорваться…»
В тот недолгий срок совместного пребывания в Москве Пушкин и Брюллов старались видеться как можно чаще. Художник запросто приходил к поэту, жившему у Нащокина. А Пушкин захаживал к Брюллову, смотрел, как он работает, вновь и вновь вглядывался в его произведения. Брюллов как раз тогда писал портрет Екатерины Семеновой. Оба с юности страстные театралы, они наперебой вспоминали ее роли, свой молодой восторг от игры замечательной актрисы, дочери крепостной крестьянки и скромного учителя Кадетского корпуса, ставшей теперь княгиней Гагариной. Скромно и замкнуто жила она нынче в Москве, погруженная в домашний мир. Совсем недавно, в прошлый свой приезд, Пушкин подарил ей только что вышедшего «Годунова» с такой надписью: «Княгине Екатерине Семеновне Гагариной от Пушкина. Семеновой — от сочинителя». Пушкин остался о ней прежнего мнения — «говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой, — и, может быть, только об ней». Он полагал, что русская сцена опустела с ее уходом, что только она умела одушевить «несовершенные творения несчастного Озерова», что в ролях Антигоны, Федры, Медеи не знала равных, что прославленная мадемуазель Жорж рядом с русской актрисой бездушна и суха. Возможно, художник и поэт вместе побывали у актрисы, как вместе могли быть у Нащокина, Орлова, Щепкина или Баратынского. Семенова чуть расплылась с годами, но былой гордой стати не потеряла. По-прежнему прекрасен строгий, благородный профиль, напоминающий камеи, четко рисуется чистая линия «римского» с горбинкой носа, тяжелые каштановые волосы туго стянуты, гладко облегают голову, посаженную гордо и величаво. Взгляд темно-голубых, почти синих глаз по-молодому жив и внимателен. Такой и изобразил ее Брюллов. Торжественная недвижность позы нарушена живо схваченным движением — только что Семенова сидела, покойно опершись на руку, и вот, то ли слушая собеседника, то ли готовясь ответить на его вопрос, встрепенулась, подняв голову с руки. Кажется, сейчас раздастся ее мелодичный контральтовый голос, завораживавший, бывало, и партер, и раек… Яркие тона, весомая плотность цвета как нельзя лучше служат величаво-размеренному, торжественному строю портрета.
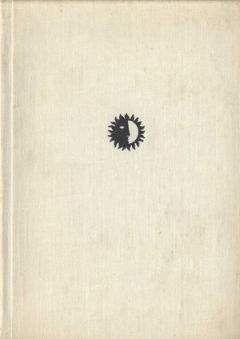

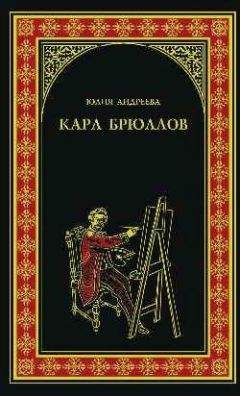
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
