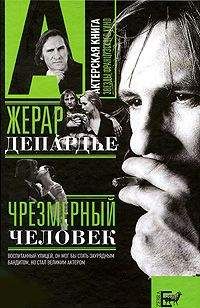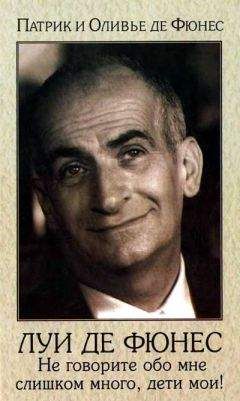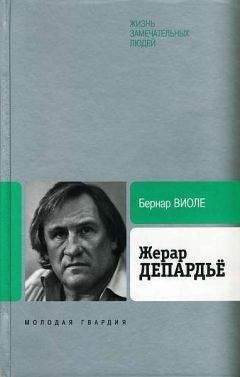Однажды утром меня разбудил телефонный звонок. И какой-то тип на другом конце провода сообщил, что мне предлагают сниматься в течение двух дней в фильме Роже Леенгардта «Битник и пижон». Он добавил, что я буду получать пятьсот франков в день. Пятьсот франков в день в 1965 году! И тут я внезапно понял, что такое деньги. Это было откровением. Вероятно, потому, что это были честные деньги. Прежде, когда мне были нужны наркотики, я занимался спекуляцией среди солдат-американцев. Достать виски, сигареты не составляло проблемы. Иногда, удовольствия ради, я занимался мелкими кражами. Да и теперь на съемках если вижу красивую дверную ручку, то просто не могу устоять. Это своего рода желание оставить о себе память. Я также обожаю пепельницы в больших отелях. Эти штуки сводят меня с ума. Подчас я испытываю угрызения, когда случается стибрить что-либо у своих лучших друзей. А представьте себе: завтра я ужинаю в Елисейском дворце…
Выходя из банка, я понял, что иметь деньги – это просто-напросто значит располагать двумястами миллионами долга – суммой, которая вскоре удвоится вместе с налогами – и при этом говорить: «Не надо волноваться. Все уладится. Мы договорились». Деньги – это когда вам разрешают испытывать в них недостаток.
Снявшись в картинах «Папаши», «Вечернее платье», «Беглецы», я разбогател, деньги стали сыпаться со всех сторон, это напоминало водопад. Но в общем-то, если разобраться, деньги – это дерьмо. Поэтому мне было дерьмово, дружище! К деньгам следовало побыстрее привыкнуть, прежде чем они не съели тебя самого с потрохами. Это может стать смертельной болезнью, проникнуть в твое тело. И вот наступает день, когда ты превращаешься в скупердяя. Начинаешь считать. Вымерять.
Однако я никогда не стану настоящим богачом. Истинные богачи, профессиональные богачи думают лишь о деньгах. Бальзак однажды написал о «невероятной расточительности бедняков». Так вот, мне тоже присуще свойственное только бедным чисто животное отношение к деньгам. Единственное состояние, которым я обладаю, – это мой вкус и то удовольствие, которое я могу получить. Этим удовольствием я всегда пользовался. Я неизменно ел хлеб и пил вино с одинаковым ощущением во рту.
Да, я всегда был богат и никогда ни в чем не нуждался. Я краду дверные ручки и пепельницы в отелях. Я истратил пятьсот тысяч, чтобы снять «Тартюфа», и столько же потратил на «Берег правый, берег левый». На моем счету двести миллионов долга, а на счету моей компании – два миллиарда. Мое настоящее богатство в том, что у меня были родители, которые никогда не читали мне морали, что у меня есть жена, которую я люблю с девятнадцати лет, и дети, для которых, надеюсь, деньги никогда не станут волшебной палочкой. Мое настоящее богатство еще и в том, что я никогда не спутаю вино, для производства которого применяют углекислоту, с бочоночным.
Франсису Веберу
Мой дорогой Франсис!
Больше всего меня сейчас волнует то, что там, в Америке, ты совсем один. Меня нет рядом, и с тобой всякое может случиться. Не без твоего участия у меня появилось какое-то странное желание тебя охранять, эдакий материнский инстинкт. В такое состояние духа меня повергла твоя незащищенность. Перед лицом обстоятельств ты выглядишь таким потерянным. Опасность представляют для тебя и люди. Ты не умеешь водить машину и не способен грамотно, не взорвав дом, заварить чай. Ты не умеешь расстелить себе на ночь постель. Если бы на свете жили такие люди, как ты, как все эти твои Перены и Пиньоны, такие неприспособленные к жизни, пришлось бы отменить воинскую повинность.
Техника вызывает у тебя панику. Ты вечно боишься потерять равновесие. Ты многие часы занимаешься на снарядах и гимнастикой и, хотя способен сделать тройной прыжок через пропасть, никогда не сможешь сесть на велосипед.
Подобная неловкость, другие недостатки, весь этот трогательный недуг начисто опровергаются твоими дьявольски безупречными, «железными», как говорят в кино, сценариями. Вот тут-то и проявляется твоя ловкость. Тут тебя не поймаешь на ошибке, ты не потеряешь равновесие. Отныне Пиньон больше не запутается ногами в ковре, не станет крушить кастрюли. Подобных Пиньонов голыми руками не возьмешь!
«Восемьдесят кусков – и сценарий под ключ!» – провозглашал ты в начале 70-х годов, вызывая негодование той части кинематографистов, которые считали себя авторами. Автор – это ты. Только читая твои сценарии, я понял, что есть автор, более того, в чем заключается работа автора. Это не такая уж неблагодарная и бесплодная работа. Ты мне часто повторяешь, что это – искусство отчуждения. Что она слегка напоминает работу художника, который сначала прикрывает полотном те места на будущей картине, которые не собирается писать. Он делает это, чтобы не испачкать то, что потом напишет. Как и он, ты тоже часами прикрываешь все лишнее, убирая из сценария все ненужное, чтобы лучше сохранить главное – решение. Такая работа может занять у тебя год. О ней никто не знает, не имеет ни малейшего понятия. Ты – ремесленник. Твои сценарии подобны отполированным предметам, предметам искусства. Это подлинно научные конструкции, часовые механизмы, в которых каждый эффект работает в должный момент. Это мир мастерства, точного слова, выверенное™ – вплоть до запятой.
Ты можешь, конечно, растеряться, проявить агрессивность, поддавшись эмоциям, страху перед лицом непредвиденной ситуации. Именно такая слабость превращает тебя в дьявола при разработке мизансцены. Подчас можно обойтись без диалогов, которые ослабляют сцену, но без мизансцены нет ничего, нет фильма. Твоя гениальная способность строить эпизод позволяет тебе добиваться поразительных результатов в работе с актерами, придавая характерам гибкость и изящество. Образы героев определяются физическими действиями. Они раскрываются перед нами во всей своей обнаженности. Ты не нуждаешься ни в каких оправдательных монологах, бесконечных психологических мотивациях, долгой экспозиции. Все течет из самого источника.
В отношениях между Люка и Пиньоном в «Беглецах» есть предначертанность. Помимо своей воли, они созданы друг для друга. Это – настоящая семейная пара. Они во власти ситуации, в которую попали. Предначертанность их встречи, четкий и резко обозначенный аспект их отношений отвечают требованиям определенной холодности, истинной жестокости, присущей великим юмористам. У Люка и Пиньона нет сил избежать своей участи. Это два героя притчи, пленники поговорки, вовлеченные в махинацию, сравнимую с «Новыми временами». В какой-то степени в твоих сценариях у героев нет надежды. Как было написано? «Когда Пиньон встречает Люка…» В сущности, ты – правый писатель. Левые писатели оставляют своим героям шанс, сударь мой. У них есть свобода выбора. Не такие уж они жертвы того, что с ними происходит. Они могут реагировать, влиять на события. В твоих же картинах все решает ситуация. Снимаясь у тебя, я никогда не испытываю ощущения, будто участвую в пустяковой комедии. Критика несправедлива к тебе – точно так же, как к твоим актерам. «Беглецы» – такая же серьезная лента, как и «Полиция», и «Под солнцем сатаны».
Тебя может удивить, но, мне кажется, ты похож на Мориса Пиала. Да, хотя он – выходец из Оверни, с бычьей шеей и лапищами кузнеца, а ты – гибкое и юное дитя Восточной Европы, потомок Кристиана Бернара. Если Морис нуждается в своем творчестве в отсутствие равновесия, а то и в полном равновесии, я все равно угадываю в вас одинаковое напряжение, чтобы хранить свое безумие на расстоянии, прибегая к одинаковым творческим усилиям, чтобы не согнуться под грузом вашего страха, неврозов, дабы не оказаться погребенными под ними.
Подчас весьма не просто разгадать все безумие, которое скрыто в твоих сценариях. От постоянного завинчивания и развинчивания болта всегда может появиться трещинка, из которой выглянет странность. Я не знаю более странного, более невероятного финала, чем в «Беглецах». Это – мир, внезапно лишившийся женщины, это – мужчина, переодетый в женщину, это – девочка, одетая мальчиком, это – мнимая семья… Кино нуждается в авторах, то есть людях, свободных от норм поведения. Нужно, чтобы все авторы снимали кино. Нужно освободиться от режиссеров! Что такое режиссер? Это более или менее способный техник. Платини[23] среди техников – это тот человек, который идет немного быстрее других, который не теряет времени на то, чтобы выбирать и ставить объектив. Все могут быть режиссерами. Я был режиссером!
Думаю, ты правильно поступил, уехав в Лос Анджелес. Американцы быстрее оценят твой талант, чем наши зануды-французы. Надо же было тебе делать такие огромные сборы своими фильмами! Идиот! Ты оказался вне закона, вне критики. Нет, ты правильно сделал, уехав туда. И все же… Не сердись на меня за то, что я тебе сейчас скажу, Франсис. Уверяю тебя, эта мысль мне подчас мешает уснуть. Слушай же внимательно: если ты поставишь керамический чайник на плитку, он взорвется. Вот и все. Мне уже легче…