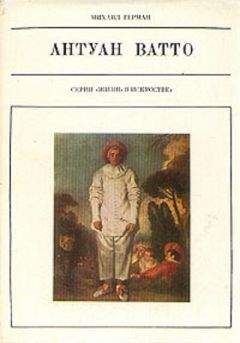Есть что-то бесконечно печальное в этой тесной группе старающихся казаться веселыми лицедеев, будто и они разделяют грусть, которую испытывает зритель, думающий, что это — последняя театральная композиция Ватто. Андре Моруа вспоминал в одном из своих эссе: «…мне довелось слышать, как Бруно Вальтер, дирижировавший в Италии „Похищением из Сераля“ Моцарта, сказал оркестрантам: „Нужно, чтобы это звучало весело, так весело, чтобы всем захотелось плакать“». (Кстати, сравнения с Моцартом и вообще не раз приходят на ум перед картинами Ватто, таящими печаль, но почти ее не показывающими. Моцарт, живший полувеком позже, вероятнее всего, не знал Ватто, но ведь минувшее нередко соединяет в себе даже разделенные временем события и судьбы.)
Немало и других холстов, кроме «Капризницы» и «Итальянских актеров», попало в английские коллекции после приезда Ватто в Лондон. Судьбы не всех картин прослежены во всех деталях, время многое скрыло, но успех Ватто — в том числе и успех материальный — был несомненен. В лондонских богатых особняках стали появляться картины Ватто, которые вскоре с жадностью начнет изучать молодой Уильям Хогарт, пока, впрочем, еще не умеющий вполне разбираться, в чем разница между Жилло, Куапелем и Антуаном Ватто.
Здесь, в Лондоне, Ватто, видимо, не ощущал себя нахлебником богатых меценатов. Английские коллекционеры не были избалованы зависимостью от них художников и относились к парижскому мастеру с уважением. Ватто был достаточно признан и дома, но здесь, наконец, он мог ощутить свою исключительность, на которую имел несомненное право.
Тем более, видя робкие копии Мерсье и слыша восторженные суждения знатоков, он мог убедиться не только в том, что его, Ватто, картины пользуются здесь успехом, но и в том, что его искусство воспринимается англичанами как новое, свежее слово в живописи.
Английский вкус, английское понимание изобразительного искусства отчасти оставались провинциальными, но, с другой стороны, Англия не несла на себе столь обременительного, хотя и драгоценного по-своему груза традиций национальной классики. Английская живопись была наивна, неловка, но отважна. Новая культура, уже открывшая миру Даниэля Дефо, Александра Попа, Ричарда Стиля и Джозефа Аддисона, Джонатана Свифта, алкала национальной живописи. Поверхностные подражатели итальянских декораторов, вроде Уильяма Кента, вызывали досаду у людей с действительно хорошим вкусом. А интерес Ватто к тонким движениям человеческой души, к жизни театра, который еще с дошекспировских времен был для мыслящего англичанина школой жизни, этики и высокой поэзии, театра, который и сейчас тщаниями Джона Драйдена, Ричарда Стиля, Джорджа Фаркера, Колли Сиббера становился самой действенной силой английской культуры, увеличивал и без того восторженное отношение к картинам французского гостя.
Напомним еще раз: английская культура той поры остро чувствовала пульс культуры французской: «Герой этой пьесы имеет столько страсти и живости, сколько он может принести из Франции, и столько остроумия и юмора, сколько может дать ему Англия», — писал Стиль в предисловии к одному из своих сочинений.
Конечно, мы не знаем, какие пьесы и в каких театрах видел Ватто, но не может быть сомнения, что назидательные комедии буржуазной Англии с их несложной, но честной моралью были для него, французского зрителя, отчасти театром будущего. Для Ватто открывалась — пусть еще в самых своих элементарных формах — мораль и этика третьего сословия. Она могла казаться пресной и догматичной ироническому галльскому уму. Но в английском театре звучали мысли, которым еще не скоро придется прозвучать с парижской сцены. Это был театр страны, уже решившей те мучительные проблемы, которые еще только вставали перед Францией, проблемы, о которых, быть может, уже не раз начинал задумываться наш художник.
Постепенно Ватто мог начать осваиваться с английской жизнью. Он узнал людей, умеющих мыслить и сомневаться, сравнивать и рассуждать. Их и в самом деле не мучили тревожные предчувствия, что давно — и вполне обоснованно — смущали покой французов: социальные перемены произошли, те, кто не был нищ — а именно с такими людьми и общался Ватто, — имели все основания для оптимизма или, во всяком случае, покоя.
У большинства из тех, с кем встречался Ватто, были библиотеки: читали усердно и постоянно; как рассказывали, и в домах фермеров книги не были редкостью. Просвещенные и состоятельные англичане жили в домах не столь прозрачно-нарядных, как французские особняки, но жизнь была уютнее: на деревянных панелях отдыхали глаза, у больших, с коваными решетками каминов собирались вечерами всей семьей, и непременно собака дремала у ног хозяина.
Вообще есть все основания думать, что для впечатлительной души и внимательных глаз Ватто Англия с каждым днем могла становиться интереснее и привлекательнее. Конечно, далеко не сразу сумел он оценить — если вообще оценил — основательную серьезность своих собеседников, редко разменивавших глубину суждений на поверхностное острословие. Здесь не клеймили и не хвалили короля, англичане относились к нему — тем более что Георг I был ганноверцем — с вежливым равнодушием и верили в парламент, который выбирали. Лондонцы умели спорить, и было о чем: существовали разные политические партии — тори и виги. Эхо парламентских дебатов сотрясало стены кофеен, наличие оппозиции всегда давало возможность объяснить любую государственную неудачу оплошностью правящей партии, недовольные утешались сменой кабинета. Англичане еще не утеряли веры в демократичность нового общественного устройства и от души наслаждались причастностью к государственным делам. На континент, и в частности на вечную свою соперницу Францию, британцы поглядывали свысока: разве у них допустили бы столь вопиющий, дорогостоящий разврат, которому предавался регент?
Оказывается, с самодовольством англичан уживалось вольнодумство, во Франции невиданное. Смелые, хотя и неуклюжие сатирические гравюры английской и голландской работы смотрели со многих витрин, свободно продавались журналы, язвительно высмеивающие характеры, нравы и даже политические события. Не было здесь, как во Франции, мучительной неуверенности, здесь трезво и увлеченно рассуждали, не строя иллюзий и не смакуя изысканный скепсис.
Вряд ли Ватто вник в суть английской государственности или даже английского характера. Но всей своей чуткой душой он понимал, конечно, что здесь — иная ступень цивилизации, иная точка отсчета нравственных ценностей; и несомненная жизнеспособность чужой страны делала его и без того хрупкий мир еще более нереальным и хрупким.
Нет ни одной картины, которую хоть как-то можно было связать с его лондонскими впечатлениями. Очевидно, он в Лондоне работал, но обращался к прежним, давно знакомым темам. Тем более что английским заказчикам они пришлись по вкусу.
(Возможно, лишь одну его работу можно связать с пребыванием в Англии — рисунок, скорее карикатуру на французского врача Мизобена, практиковавшего в Лондоне и известного своими сомнительными пилюлями, приносившими ему, тем не менее, большой доход. Ватто изобразил врача на фоне кладбища: «Покупайте пилюли, покупайте пилюли» — было написано под рисунком. Оговоримся, что это не более чем предположение, хотя кто-то и рассказывал, как Ватто в таверне «У старого скотобоя» за несколько минут нарисовал Мизобена.
Но рисунок известен лишь по гравюре, сделанной без малого через двадцать лет после английского путешествия Ватто, и скорее всего предприимчивый гравер поставил имя французской знаменитости для вящей приманки публики.)
Словом, вместо сколько-нибудь конкретных сведений биограф располагает касательно поездки в Англию только одними предположениями. Доподлинно известно лишь, что вернулся он во Францию совершенно больным.
Одни биографы пишут, что, вернувшись, он совсем не мог работать, другие, что работал через силу, редко, превозмогая болезнь. Видимо, правы и те и другие. Туберкулез посылает больному лихорадочные вспышки трудоспособности и даже хорошего настроения, чтобы потом совершенно лишить его сил.
Он приехал летом 1720 года. В начале следующего года он был еще на ногах: Розальба Каррьера записала в дневнике, что 9 февраля была у Ватто «с ответным визитом», стало быть, до этого Ватто навещал знаменитую итальянку. Кроза заказал Розальбе портрет Ватто пастелью, правда, неизвестно, согласился ли он позировать.
Возможно, после возвращения Ватто написал один из немногих своих портретов — портрет скульптора Патера, своего земляка.
Приехал ли старый Патер в Париж навестить своего сына — незадачливого ученика Ватто, но уже начинавшего завоевывать успех в столице, или ездил в Валансьен сам Ватто?[51] При бедности сведений, которые до нас дошли, можно выдвигать любые гипотезы.