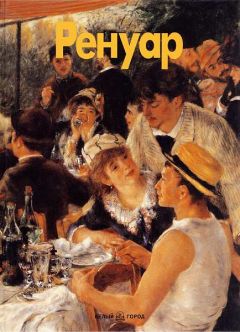Владелец картины, отправляясь в кругосветное плавание, пожелал взять ее с собой на фрегат. Мысль дикая с точки зрения сохранности произведения. Но об этом не думалось. Тургенев, находившийся в это время (январь 1881 года) в Париже, пришел в ужас. «Нет никакого сомнения, что она вернется оттуда совершенно погубленной благодаря соленым испарениям моря и пр.», — возмущенно писал он Дмитрию Григоровичу[43].
Солнечный свет в парке. 1901 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Березовая роща. 1879. Фрагмент Государственная Третьяковская галерея, МоскваТургенев посетил великого князя в Париже, пока фрегат стоял в Шербурском порту, и уговорил его прислать картину на короткое время в Париж, надеясь, что удастся оставить картину на выставке. Но надежды не оправдались. В Париже Лунная ночь на Днепре выставлялась в галерее Зедельмейера, за краткостью времени публикой не была замечена и вскоре отбыла с князем. Предчувствия Тургенева оправдались: картина стала необратимо темнеть.
Несмотря на кажущуюся натуралистичность изображения, в образах Куинджи явственно прочитывается почти мистическая завороженность созерцаемым миром. Таинственный свет становится доминирующим смыслом романтического образа. Это он погрузил мир в некую недвижность в Вечере на Украине, затем в Лунной ночи на Днепре, Дарьялъском ущелье (ГТГ) и лунных пейзажах Эльбруса.
Снежные вершины. Кавказ. 1890–1895 Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургСозерцая свет луны или заходящего солнца на белых отрогах скалистых вершин, Куинджи апеллирует к космосу. Земное и планетарное сливаются в целостном понятии мироздания. Величие мира наполняет душу человека торжественным звучанием. Музыка переливчатого цвета уподобляется хоралу. Земное, прозаическое как бы очищается вечным. Здесь следует подчеркнуть музыкальность куинджиевской живописи. Большую роль играют ритмы картинных плоскостей, своего рода паузы между цветовыми напевами, протяженные линии горизонта, певучие перспективы и, конечно, томительный свет, словно замерший в пространстве и времени.
В творчестве Куинджи романтическое мышление воплотилось наиболее последовательно. Но образная концепция мира обновлялась. В ней более сказывались размышления о реальности, чем сама реальность. При попытке проникнуть в тайны мироздания художника словно одолела оторопь перед открывающимися безднами, и он обратился к земным проявлениям космического духа.
Тенденция к преображению выступила у Куинджи гораздо сильнее, чем в реалистическом пейзаже, что знаменовало переход его творчества на принципиально другой уровень. Передвижники, истолковывая жизнь, искали ее смысла. Куинджи пытался постичь конечное значение вещей. Эта перемена ориентиров особенно заметна в картинах Лунная ночь на Днепре, Дарьяльское ущелье, Ночное (1905–1908, ГРМ), Красный закат (1905–1908, Музей Метрополитен, Нью-Йорк), видах Эльбруса при лунном и вечернем освещении и других. Изменившаяся стилистика Куинджи входит в согласие с новой поэтикой. Великая непостижимость вселенной притягивает художника. Предметом его пейзажей становится не только бытие природы, но и жизнь духа, невидимая, но постоянно ощущаемая в полыхании и сиянии светил, в особой ностальгической настроенности Украинской ночи, Вечера на Украине, Ночного. Видимо, поэтому завороженный свет можно рассматривать как эманацию духа, а не только в качестве физической принадлежности материального мира. Русский пейзаж второй половины XIX века психологичен, но не так идеален, как в романтическом искусстве Куинджи. Чем дальше от 1882 года, тем более цвет светится таинственным мерцанием, тем сильнее он сплавляется со светом. Однако эта спаянность не преследовала эффекта иллюзии. Некое превышение реальности, гипербола цвета акцентирует внимание на духовно-идеальных началах. Христос в Гефсиманском саду (1901, Алупкинский дворец-музей) как бы завершает формирование философского пейзажа в творчестве Куинджи и в русском пейзаже XIX века.
Дарьяльское ущелье Государственная Третьяковская галерея, МоскваРассекретить неявный смысл куинджиевских произведений достаточно трудно. Художник нигде не оставил даже намеков на содержание и тайный замысел своих работ. Остались косвенные свидетельства, к примеру, Репина, заметившего, что Куинджи «большой философ». Склонность к философствованию отмечает Анна Комарова — биограф Шишкина, сообщившая, что оба художника обсуждали проблему искусства как религию будущего.
Ответы на вопросы, хотя и не прямые, дает философия того времени. Выйти за пределы умонастроения эпохи трудно не только художникам, но и мыслителям, тем более, что они-то и определяют эти умонастроения. Русская философия 1870–1880 годов представляла, по верному замечанию Василия Зеньковского, не только мировоззрение. Философия охватила разные стороны человеческого творчества — науку, искусство, литературу, идеологию и даже обыденное сознание — и растворилась в нем. Остаться не вовлеченным в этот поток сознания было невозможно. Художники разделяли идеи своего времени. Исследователи отмечают несколько специфических особенностей русской философии второй половины XIX века. Рядом с этической проблематикой не менее важное место заняла космология. Заряженность эпохи проблемами бытия, проблемами мира, культуры — очевидна. Нет сомнения, что повышенное внимание Куинджи к вопросам мироздания, его размышления о месте в нем человека — это своего рода реакция искусства на мировоззренческую проблематику. Космология тесно соприкасалась с религией, точнее, исходила из нее. Владимир Соловьев пытался сблизить философию и веру. Вера, по Соловьеву, есть такое же миропонимание, как и философия, но, приникая к разным источникам, они по-своему высказываются о происхождении мира, о космосе и единении с ним человека. Мысль о «всеединстве» гораздо раньше Соловьева встречается у других философов: Алексея Козлова, Федора Голубинского, Виктора Кудрявцева, Панфила Юркевича, а также у Николая Михайловского.
Облако. 1898–1908 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Море с парусным кораблем. 1876–1890 Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургСоветское искусствознание в анализе истории искусства упустило несомненный факт религиозности сознания XIX века. Между тем в Бога, в творца вселенной верили наиболее значительные мыслители: Петр Лавров, Михайловский, Алексей Хомяков, братья Иван и Петр Киреевские, Достоевский, Лев Толстой, Соловьев и даже материалист, почти «марксист» Николай Чернышевский. Созерцание неба окрашивалось у Куинджи теургическими мотивами. Он словно хотел проникнуться таинствами неба. Бездонный мир открывался ему непознанной тайной, загадочностью своего бытия. Однако искусство Куинджи не пыталось создать некий аналог философским утверждениям. Но связь его с умонастроениями философов XIX века очевидна. Кажется, что размышления архиепископа Никанора о том, что «природа заложила совершеннейший отпечаток космического разума в сокровенный разум человеческой души в виде смутных ощущений и предощущений неуловимых, но стимулирующих идей…»[44], прямым образом относятся к пейзажам Куинджи. Как будто художнику, а не философу свойственно «живое видение абсолютного бытия». Не менее примечательны слова другого философа-народника Николая Чайковского, словно адресованные Куинджи с его побуждениями проникнуться тайнами вселенной: «Когда душа в своем оживлении сливается с душой целой вселенной, тогда-то мы и слышим Бога — прежде всего в самих себе, потом в других, и в природе, и в небе, то есть чувствуем и мыслим космос как одно целое»[45]. Нет сомнения не только в философской тональности пейзажей Куинджи, но также в их романтическом соответствии философии его времени, с ее смутными ощущениями, жаждой тайны и ускользающей мыслью, что и составило поэтику куинджиевского романтизма, смысл его образов и особенность сотворенной им красоты.
Лодка в море. Крым. До 1875 Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургВ 1882 году Куинджи исполнилось сорок лет. Эта круглая дата разделяет его жизнь на две половины. В 1882 году художник прекратил свою публичную выставочную деятельность и, как казалось, закончил творческую работу.
В июне он приехал в Москву. На Кузнецком мосту в доме Солодовникова экспонировались два его произведения — Лунная ночь на Днепре и Березовая роща. Куинджи поселился в Большой московской гостинице, рядом с рестораном Тестова, против Иверской часовни. Человек практичный, он специально выбрал эту дешевую гостиницу, где платили полтора рубля за комнату. Несмотря на большие доходы он не изменил своим скромным запросам.