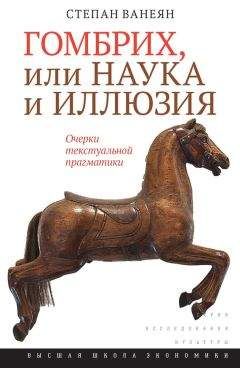не устают пересекать небесный простор. [475]
Всякий, прочитавший этот отрывок во всей его полноте, согласится, что переживания Беллори отнюдь не только эстетические. Ланфранко предложил ему видение небес, возможность заглянуть в рай. Похоже, ни художника, ни критика ничуть не страшит опасность спутать великолепный символ с более высокой реальностью.
И впрямь, существует довольно много свидетельств, что этот конкретный вопрос тревожил после-тридентскую церковь куда меньше, чем можно предположить, читая решения собора. Рациональная граница между символом и реальностью, субъективным видением и объективным фактом на росписи барочных сводов стирается едва ль ни нарочно.
Хороший пример такой двойственности — фрески бенедиктинского монастыря Мелк в Австрии.
Художника попросили изобразить восшествие святого Бенедикта на небеса. [476] Такого рода апофеозы стали почти обязательными для церковных сводов, но это программа отличается от сходных тем, как стремились ее составители показать объективную правду изображаемого события. Согласно легенде, в тот миг, когда святой скончался на Монте Кассино, двум монахам в совершенно разных местах предстало одинаковое видение. Обоих следовало изобразить окруженных ангелами в разных частях свода, откуда бы они наблюдали за восшествием святого в ангельские сферы. Что особенно интересно для нас: в сцену, подтверждаемую независимыми свидетелями, включены персонификации — Религия помогает, а Идолопоклонство не может воспрепятствовать победному шествию святого, которого сопровождают Целомудрие и Покаяние, две его отличительные добродетели. Они так же видны монахам, как сам святой и ангелы.
Без сомнения, если б ученого теолога, написавшего эту программу полатыни, допросили с пристрастием, он бы ответил теми же доводами, что некогда Джарда: истинные небесные события неизобразимы, но образы, виденные избранными и написанные художником — по крайней мере достойное отражение более высокой реальности, некий на нее намек. Вид разверстых небес, в которых персонификации общаются с ангелами — сам по себе аналог постижению такой реальности. Духовные сущности нельзя изобразить символическими образами, как нельзя описать и иными средствами, но подобные образы хотя бы иллюстрируют иерархическую структуру мира, по-прежнему хранящего родство со слоистой вселенной Платона.
И на иезуитской сцене и в бесчисленных картинах земные события повторяются или отражаются на более высокой сцене абстракциями, в которых, скажем, низвержение идола конкретным святым разыгрывается вновь как победа Религии над Идолопоклонством. Именно это отражение на более высоком уровне придает смысл происходящему внизу.
Насколько в семнадцатом столетье укоренилась эта привычка, насколько близко оказалась она связана с живописью, видно из еще одного текста, описывающего барочную потолочную роспись. Заканчивая описание знаменитой фрески Divina Sapientia работы Сакки в Палаццо Барберини в Риме H. Tetius вспоминает, как этот символ обрел для него жизнь. Однажды, узнаем мы, Урбан VIII был во дворце и сидел под фреской, когда, по чистой случайности, для поучения был выбран отрывок про Божественную Премудрость. Все присутствующие были потрясены мистическим совпадением.
Наконец-то мы смогли узреть Божественную Премудрость, которую доселе видели лишь смутно, скрытую покрывалом, открыто и без помехи, так что каждый мог ее созерцать: ее божественный и светлый архетип (archetypam) в Священном Писании, ее прототип (prototypam) в Урбане и ее изображение (ectypam) в живописи. Какой свет, какое величие наполнили комнату и явились всем, окружавшим вдохновенного князя. По правде сказать, мнилось, что самые стены скачут от радости (parietes ipse gestite videbantur) и поздравляют себя с этой высокой честью. Мы же преисполнились радостной уверенности и как будто перенеслись в присутствие самой Божественной Премудрости (quasi in ipsam Sapientiam Divinam rapti), так что в будущем не будет для нас ничего темного и непроницаемого. [477]
У трех приведенных текстов — описания Беллори, программы Мелкского потолка и рассказа Тетия о пережитом в Палаццо Барберини — есть общая черта: упор на экстатические провидческие состояния. Связное философское объяснение этих состояний можно найти в первую очередь в неоплатонизме. Оно основано на уже упоминавшемся платоновском учении о трех видах знания.
Нижайшая из этих форм — это, разумеется, знание, полученное нашими чувствами и не заслуживающее иного названия кроме как «мнение». Более высокая форма достигается рассуждением, идущем диалектически шаг за шагом. Покуда душа заключена в теле, мы должны обходиться этими двумя несовершенными провожатыми, чувствами и разумом, и не способны охватить всю истину целиком, но должны использовать костыли силлогизмов. Высочайшая форма знания — та, которая человеку обычно недоступна, ибо это процесс умного интуитивного постижения идей или сущностей напрямую, «лицом к лицу». По Платону мы обладали этим знанием до своего рождения и вновь обретем его, как только сбросим оковы тела и вернемся в царство Идей. В жизни — и эту сторону подробно разрабатывал неоплатонизм — мы можем лишь надеяться на обретение истинного знания в те редкие минуты экстаза, когда душа оставляет тело, например, в состоянии божественного исступления. Отсюда то значение, которое флорентийские неоплатоники придавали исступлению в любви, поэзии и даре пророчества, отсюда же стремление ренессансных художников доказать, что они стремятся к тому же состоянию божественного вдохновения, которое античность признавала за поэтами.
Усилия эти, безусловно, увенчались успехом. Занятно даже, что в позднеренессансное время великий поэт, претендуя на пророческий статус, опирается на аналогию с живописцем, во всяком случае, с живописцем того рода, который нас интересует — создателем наглядных символов. Торквато Тассо в важном разделе своего трактата «Del Poema Heroico» совмещает изложение платоновской теории знания со ссылкой учение о символизме Дионисия Ареопагита. [478]
Он умоляет не равнять поэта с софистом, относя его к создателям «идолов» (как делал это Платон).
Я скорее назвал бы его создателем образов наподобие говорящего художника, и в этом он сходен со священным теологом, который изобретает либо заказывает образы… поэт — почти то же, что теолог и диалектик. Однако священная философия, как можно назвать теологию, состоит из двух частей, отвечающих двум частям ума. Ибо Платон и Аристотель, а с ними и Ареопагит говорят нам, что ум состоит из делимой и неделимой частей… К неделимой части, которая есть чистейший разум, принадлежит наиболее таинственная теология, содержащаяся в знаках и обладающая властью сделать нас совершенными. Другую, стремящуюся к Премудрости и воспринимающую доказательства, он относит к делимой части ума, много менее благородной, чем неделимая. Ибо много благороднее вести ум к размышлению о вещах божественных и возбуждать его к этому посредством образов, как то делает мистический теолог, нежели наставлять его путем доказательств, что составляет задачу теологии схоластической. Итак, мистический поэт и теолог превосходят всех других благородством…

Рафаэль: Видение Иезекииля. Флоренция, Палаццо Питти