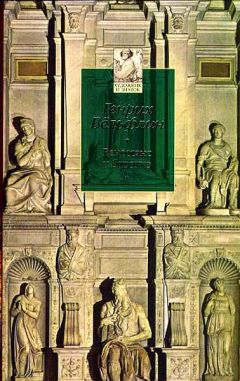Но это совсем не означает, что такие неоконченные и незавершаемые проекты полностью исключены из социальной репрезентации. Даже если от них нельзя ожидать эффекта ресинхронизации посредством более или менее успешного результата, такие проекты могут тем не менее быть представлены в виде документации.
Некогда Сартр описал состояние «пребывания-в-проекте» как онтологическое условие человеческого существования. Согласно Сартру, каждый человек живет в перспективе своего собственного, персонального будущего, которое заведомо недоступно взгляду других.
С точки зрения Сартра, это условие ведет к радикальному отчуждению человека, поскольку окружающие видят в нем конечный продукт его личных обстоятельств, но никогда — гетерогенный проект этих обстоятельств. Следовательно, гетерогенное параллельное время проекта остается неуловимым для какой бы то ни было репрезентации в настоящем. Согласно Сартру, проект запятнан подозрением в эскапизме, в намеренном уклонении от социальной коммуникации и индивидуальной ответственности. Неудивительно поэтому, что Сартр описывает онтологическое состояние субъекта как состояние mauvaise foi (неискренности). И поэтому экзистенциальный герой Сартра постоянно подвержен соблазну посредством решительного «прямого действия» заполнить разрыв между всеобщим временем и временем собственного проекта, чтобы хотя бы ненадолго синхронизировать оба времени. Но хотя гетерогенное время проекта не может завершиться, оно, как было сказано прежде, может быть документировано. Можно даже сказать, что искусство есть не что иное, как документация и репрезентация гетерогенного проектного времени. Прежде это была документация божественной истории в качестве проекта мирового искупления. Сегодня мы имеем дело с индивидуальными и коллективными проектами будущего. В любом случае художественная документация предоставляет место в настоящем времени всем нереализованным и нереализуемым проектам, не навязывая им ни успеха, ни поражения.
В этом смысле все написанное самим Сартром может также считаться такого рода документацией.
Несомненно, на протяжении последних двух десятилетий художественный проект — вместо произведения искусства — сосредоточил на себе внимание художественного мира. В каждом художественном проекте предполагается формулирование определенной цели и стратегии ее достижения. Однако нам, как правило, отказано при этом в критерии, позволяющем установить, достигнута ли цель проекта, потребовалось ли для ее достижения чрезмерное время и достижима ли вообще эта цель как таковая. Наше внимание, таким образом, переключается с результата проекта (в том числе произведения искусства) на проживание художественного проекта, причем это проживание непродуктивно, то есть не ориентировано на результат. В подобных условиях искусство перестает быть производством художественных продуктов и становится документацией «жизни-в-проекте», причем реальный и предполагаемый итог этой жизни не имеет большого значения. Очевидно влияние этого понимания искусства на его определение. Искусство теперь не манифестируется в качестве другого, нового объекта созерцания, созданного художником, но представляется скорее как другая, гетерогенная временная структура художественного проекта, который документируется как таковой.
Произведение искусства в традиционном понимании целиком олицетворяло собой искусство в его непосредственном, осязаемом и зримом присутствии. Отправляясь на художественную выставку, мы обычно полагаем, что все там выставленное — живопись, скульптура, рисунки, фотографии, видео, редимейды или инсталляции — должно быть искусством. Конечно, произведения искусства так или иначе отсылают к вещам, которыми они не являются, например к объектам реального мира или каким-то политическим проблемам, но они не отсылают к искусству, поскольку они сами им являются. Посещение выставок и музеев доказывает, однако, все возрастающую ошибочность этой традиционной предпосылки. Дело в том, что кроме произведений искусства сегодня в художественном пространстве мы все чаще сталкиваемся с разного рода документацией искусства. При этом, как и раньше, мы видим картины, рисунки, фотографии, видео, тексты и инсталляции, иначе говоря — те же формы и средства, которыми обычно представлено искусство. Однако в случае с художественной документацией искусство более не представлено, а только документировано с помощью этих медиа. Ибо художественная документация per definitionem не искусство. Художественная документация только отсылает к искусству, тем самым давая понять, что искусство перестало быть доступным и видимым, но стало отсутствующим, спрятанным.
Итак, художественная документация пытается использовать художественные средства в пространстве искусства для прямой отсылки к самой жизни, иначе говоря, к форме чистой активности или чистого праксиса, каковой жизнь и является, но при этом отсылка художественного проекта к жизни не связана с желанием ее прямой репрезентации. Здесь само искусство превращается в образ жизни, в результате чего произведение искусства становится неискусством, простой документацией этого образа жизни. Или, иначе говоря, искусство сегодня становится биополитическим, потому что оно начинает художественными средствами производить и документировать саму жизнь как чистую деятельность. Впрочем, художественная документация и может развиваться только в условиях нашей биополитической эпохи, в которой сама жизнь стала объектом технического и художественного продуцирования. Так мы снова сталкиваемся с вопросом о взаимоотношениях между жизнью и искусством — но в крайне необычной констелляции, когда искусство в виде художественного проекта парадоксальным образом стремится стать жизнью, вместо того чтобы, скажем, просто воспроизводить жизнь или предоставлять ей в пользование произведение искусства. Но здесь встает вопрос: в какой степени документация, и художественная документация в том числе, действительно способна представлять саму жизнь?
В самом деле, любая документация неизбежно вызывает подозрение в фальсификации жизни. Ибо каждый документ и каждый архив предполагают определенный выбор сюжетов и обстоятельств. При этом подобный отбор обусловлен определенными критериями и ценностями, всегда спорными и по необходимости остающимися таковыми. Более того, процесс документирования всегда обнаруживает разрыв между самим документом и документируемым событием — расхождение, которое не может быть ни превзойдено, ни ликвидировано. Но даже если бы нам удалось разработать процесс, способный воспроизводить жизнь в ее целостности и тотальной аутентичности, мы в конечном счете все равно имели бы дело не с самой жизнью, но с ее посмертной маской, ведь именно уникальность жизни и составляет ее жизненность. Именно по этой причине наша культура сегодня воспринимает документацию и архив с чувством глубокой тревоги, более того — она подчас громогласно протестует против архива во имя жизни. Архивисты и бюрократы, заведующие документацией, воспринимаются многими как враги настоящей жизни, предпочитающие манипулирование и управление мертвыми документами непосредственному опыту жизни. Бюрократ в особенности считается агентом смерти — его контроль над холодной властью документов способен сделать жизнь серой, монотонной, бессобытийной и бескровной, короче говоря, смертоподобной. Примерно то же может ожидать художника, включившегося в документирование, — он рискует быть уподобленным бюрократу и восприниматься как очередной агент смерти.
Между тем хранящаяся в архивах бюрократическая документация состоит, как мы знаем, не только из воспоминаний, но включает проекты и планы, обращенные не к прошлому, но к будущему. Эти архивы проектов содержат черновики еще не состоявшейся жизни, подразумеваемой, должно быть, в будущем. В нашу эру биополитики это означает не только изменение фундаментальных условий жизни, но и активное участие бюрократии в производстве самой жизни. Биополитику часто интерпретируют как научные и технологические стратегии генетической манипуляции, которые, по крайней мере теоретически, направлены на переделку живых организмов. Однако настоящие достижения биополитических технологий связаны с формированием времени жизни — организацией жизни как события, чистой активности, происходящей во времени. От деторождения и обеспечения пожизненного медицинского обслуживания до регулирования баланса между работой и отдыхом и медицинского контроля над смертью — жизнь каждого индивида сегодня является предметом постоянного наблюдения и улучшения. Жизнь уже не воспринимается как исходное, элементарное экзистенциальное событие, как жребий фортуны, самостоятельно разворачивающееся время — скорее жизнь стала искусственно создаваемым и оформляемым временем.