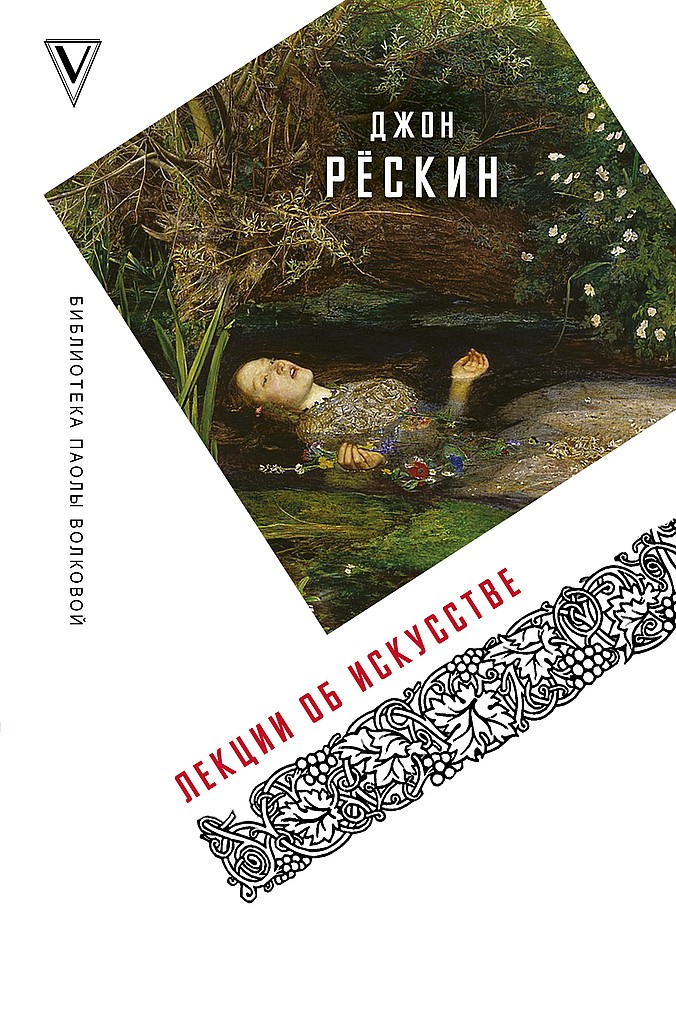большом протяжении, тень постоянно слаба, если она велика. Затем природа заполняет всю остальную свою картину средними цветами или бледно-серым, и на этом спокойном гармоническом целом она крапинками помещает самый яркий свет: пену изолированной волны, парус уединенного корабля, отблеск солнца на мокрой крыше, блеск выбеленной хижины и другие подобные источники местного блеска она выразит так живо, так тонко, что все остальное повергнет в резкую тень по сравнению с ними. И тогда, добившись мрака, она выразит черные углубления какого-нибудь выдающегося берега, или черное платье какой-нибудь находящейся в тени фигуры, или глубину какой-нибудь лишенной света трещины в стене или окне, выразит их так резко, что все остальное она выставит в определенно выделившемся по сравнению с ними свете. Таким образом главную массу своей картины она окрашивает в нежный средний цвет, конечно, приближая его здесь к свету, там к мраку. Но при этом она резко отделяет его от крайних степеней как того, так и другого.
Любопытно, что никто, кажется, из писателей, пишущих об искусстве, не отметил великого принципа природы в этом отношении.
§ 9. Пренебрежение этим принципом или отстаивание противоположного ему у писателей, пишущих об искусстве
Они все говорят о глубочайшей тени как о вещи, которая может быть дана в большом количестве, может составлять четвертую, а в известных эффектах и большую часть картины. Например, Барри говорит, что великие художники, «лучше всего уразумевшие эффекты светотени», имели по большей части обыкновение отводить среднему цвету больше места, чем свету, а темному больше, чем среднему и свету вместе взятым, т. е. более половины всей картины. Я не знаю, что имеют в виду слова «уразумевшие светотень». Если под ними разумеется способность фабриковать приятные рисунки в виде пирамид, крестов и зигзагов, в которых должны представляться руки и ноги, должна распределяться страсть и движение только для поощрения болтовни критиков, то принцип Барри может породить в высшей степени богатые последствия. Но если иметь в виду знакомство с глубокой, постоянной, систематической, скромной простотой и неутомимым разнообразием светотени в природе; если иметь в виду понятие о том, что черное и возвышенное — не синонимы и что пространство и свет могут быть союзниками, тогда всякий человек, защищающий подобный принцип или грезящий о нем, окажется не более как взбалмошным ребенком и обманщиком в светотени.
И хотя все художники восстают против цвета, как великой Цирцеи искусства, великого совратителя ума в чувственность, я твердо убежден, что самое сильное пристрастие к цвету,
§ 10. И получающееся вследствие этого ложное направление учащихся
самое ревностное изучение его не могут даже наполовину быть столь опасными камнями преткновения для молодых студентов, как тот восторг, который постоянно на его глазах расточают этой искусственной, ложной и жонглерской светотени; художественное воспитание, которое он получает, основывается на принципах вроде принципа, высказанного Фузели: «Свет и тень в природе, как бы они ни были правдивы сами по себе, не всегда бывают законной светотенью в искусстве». Это не всегда, может быть, приятно для софистического, нечуткого и извращенного ума, но студент поступил бы лучше, если бы совсем бросит искусство, чем развиваться в убеждении, что какая-нибудь другая светотень может быть законной. Я думаю, мне удастся вполне доказать в следующих частях моего труда, что «только свет и тень природы» служат подходящим и верным спутником высшего искусства, что все фокусы, всякое явно придуманное распределение, всякая растянутая тень и суженный свет, словом, все, хоть в мельчайшей степени искусственное, все, что стремится остановить ум на свете и тени как таковых, все это не укрепляет, а оскорбляет высшее, идеальное представление. Мне, я думаю, удастся также доказать, что природа обращается со своей светотенью гораздо искуснее и тоньше, чем воображают, что «свет и тень в природе» — гораздо прекраснее того, что могут создать все художники вместе взятые, и только люди, никогда не понимавшие светотени в природе, воображают, что они могут исправлять ее.
Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что всякий раз, когда ученик получает позволение забавляться, рисуя одну фигуру совершенно черной, а ближайшую совершенно белой и помещая их на фоне, лишенном какой бы то ни было ценности,
§ 11. Великое значение простой светотени
всякий раз, когда ему позволяется портить свою записную книжку четвертушками солнечного света, осьмушками тени и другими подобными обрывками возвышенного, всякий раз создаются все большие и большие затруднения на пути его к тому, чтобы стать настоящим мастером; и только те находятся на дороге к действительному превосходству, кто бьется, чтобы передать простоту, чистоту и неистощимое разнообразие естественной светотени при открытом безоблачном дневном свете, кто дает пространство гармоничного света, выразительную, решительную тень и изысканную прелесть, нежность и величие, которыми проникнуты противопоставляемые в воздухе местные цвета и одинаково освещенные линии. Нет светотени труднее этой, нет благороднее, чище и сильнее. Впрочем, об этом вопросе я не буду распространяться в данную минуту; я хочу только указать на те великие принципы светотени, которые природа соблюдает даже тогда, когда она наиболее работает над эффектами, когда она играет громовыми тучами и солнечными лучами, выделяя один предмет и помрачая другой, с самым ясным артистическим чувством и замыслом; даже тогда она не забывает великого правила давать в небольших количествах глубочайшую тень и самый яркий свет, так, чтобы точки одного соответствовали точкам другой, чтобы оба были резко заметны и отделялись от остальной части пейзажа.
Странно, что это разделение, являющееся великим источником блеска в природе, не только не замечено, но даже запрещается нашими великими писателями, пишущими об искусстве; они постоянно твердят о необходимости соединять свет с тенью посредством незаметных переходов.