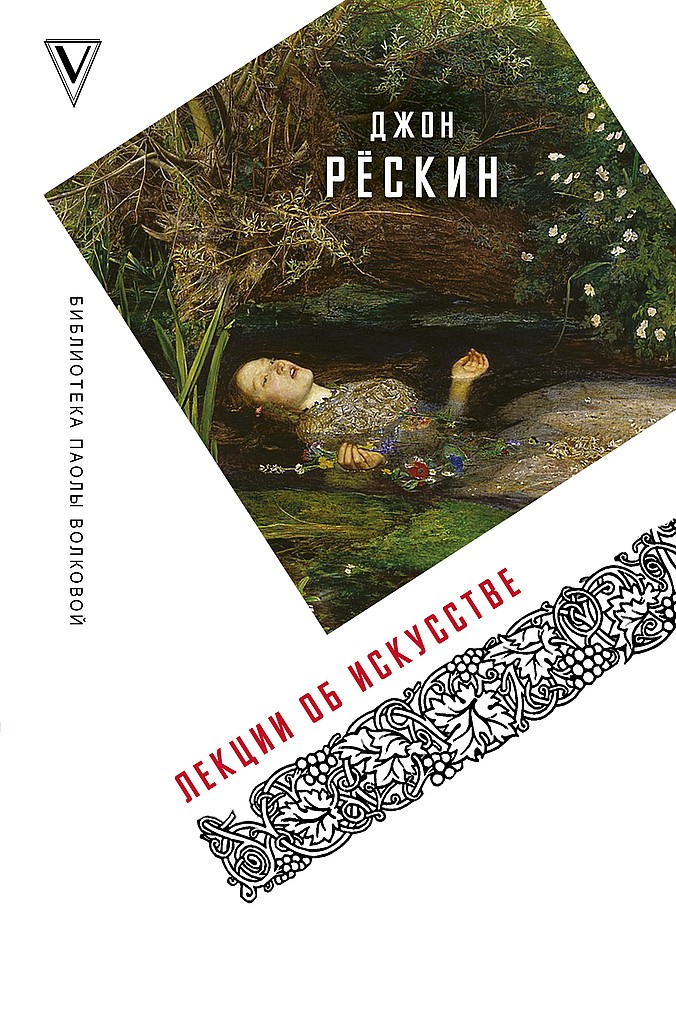характернейшие для Италии черты, которые сконцентрированы на 168 странице Роджерсовой «Италии», где длинные тени стволов резче всего бросаются в глаза из всех частей переднего плана, и послушайте, как Вордсворт, самый зоркий из всех современных поэтов по отношению ко всему глубокому и существенному в природе, иллюстрирует Тернера здесь, подобно тому как он иллюстрировал его во всех других пунктах: «у подножия высокой сосны сидел я по вечерам, и ты, тень ее голого, стройного ствола, так часто тянулась ко мне, подобно длинной, прямой тропинке, едва заметной на лужайке» (Excursion, book VI).
В Rhymers’Glen (иллюстрации к Скотту) обратите внимание на переплетающиеся тени на дороге и пересекаемые ими стволы, затем — на мост в Армстронгской башне, и, наконец, на длинную бриенскую дорогу, где мы видим две-три мили, выраженные одними играющими тенями, а вся картина кажется полной солнечного света благодаря длинным темным линиям, которые фигуры бросают на снег. «Hampton Court» в английских сериях — другой в высшей степени поразительный пример. В самом деле, общая система исполнения, наблюдаемая во всех рисунках Тернера, заключается в том, чтобы сделать великолепно и подробно отделать свой фон, иногда пунктируя его и придавая ему беспрестанно бесконечное количество тонких таинственных деталей, и на изготовленном таким образом фоне набросить свои тени одним взмахом, оставляя необыкновенно резкий край водянистого цвета. По крайней мере, так обыкновенно бывает в грубых, свободных вещах его вроде вышеупомянутых. Слово недостаточно точно, чтобы выразить, недостаточно тонко, чтобы проследить беспрерывное, все проникающее влияние
§ 6. Действие его теней на свет
более тонких и неопределенных теней в его произведениях, то проходящее насквозь влияние, которое придает оставляемому ими свету его страстную силу. Мы чувствуем свет над каждым камнем, каждым листом, над каждым облаком, словно он действительно льется и трепещет перед нашими глазами. Это — движение, это — настоящее колебание, сияние испускаемого луча; это не тусклое, общее дневное освещение, которое падает на пейзаж безжизненно, бессмысленно, без определенного направления, одинаково на все предметы и мертвенно на все предметы; этот свет дышит, живет, играет; он чувствует, воспринимает, радуется и действует, выбирает одни предметы, отвергает другие; он перепрыгивает с скалы на скалу, с листа на лист, с волны на волну, то пылая пожаром, то сверкая, то слабо мерцая, смотря по тому, что он поражает; или в святые моменты своего настроения он обнимает и окутывает все предметы своим глубоким полным миром, a затем снова пропадает, словно сбившись с пути, охваченный сомнением и мраком, или гибнет и исчезает, втягиваясь в сгущающийся тумань, или тая в печальном воздухе, но все-таки, вспыхивающий или потухающий, искрящийся или спокойный, он остается живым светом, который дышит даже в состоянии глубочайшего покоя и оцепенения, который может уснуть, но не умереть.
Едва ли есть надобность останавливаться подробнее на резком различии в этом отношении между творениями старых мастеров и великих современных пейзажистов. Это различие читатель может прекрасно установить сам при небольшом систематическом внимании; он найдет такое различие не только между тем и другим отдельными произведениями, но во всей массе их произведений до последнего листа и линии.
§ 7. Существование этого различия можно установить почти между всеми творениями старинных и новых мастеров
Небольшое, внимательное наблюдение за природой, особенно в ее листве и передних планах, и сравнение ее с изображениями Клода, Гаспара Пуссена и Сальватора, тотчас же докажут читателю, что эти художники всегда работали по условным правилам; они изображали не то, что видели, а то, что, по их мнению, должно было составить прекрасную картину, и даже в тех случаях, когда они обращались к природе (что, по моему мнению, случалось гораздо реже, чем хотят нас уверить их биографы), они копировали ее подобно детям, изображая то, существование чего им было известно, а не то, что они видели [43]. Вы можете осмотреть передние планы всех картин Клода от одного конца Европы до другого, и вы, я уверен, не найдете тени листа, которая бы падала на другой лист. Вы найдете лист, более или менее резко и ясно выступающий из фона, найдете темные листья, выделяющиеся при свете в определенной совершенной форме, но вы не встретите нигде, чтобы форма одного листа покрывалась или пересекалась тенью другого. Пуссен и Сальватор были еще дальше от настоящей истины. Все, что есть в их картинах, можно было сфабриковать в их мастерских, имея при себе две-три ветки терновника и два-три пучка плевелов для формы листьев. Освежающее действие испытывает, когда от этого невежественного воспроизведения детских представлений обращается к ясным, верным и истинным этюдам современных художников, потому что не один Тренер (хотя здесь, как и во всем, он занимает первое место) замечателен, но тонкой и выразительной решимости в светотени. Некоторые места у Гардинга прекрасны в этом отношении, хотя этот художник допускает несколько излишнюю смелость в исполнении общего; благодаря этому мы не чувствуем решительности в частях, в которых она должна особенно проявляться, и его картины, особенно большие, кажутся несколько бледными. Но некоторые места в скалистых передних планах его последних картин замечательны по изысканности форм и резкой выразительности их теней. Равным образом и у Стэнфилда светотень заслуживает самого внимательного изучения.
Второй пункт, на который я хочу обратить внимание, касается распределения света и тени. Природа неизменно употребляет и самый яркий свет, и самые глубокие тени в чрезвычайно малом количестве, всегда в точках, никогда в массах.
§ 8. Второй великий принцип светотени. Самый яркий цвет и самая густая тень должны употребляться в равном количестве и только в точках
Она дает большую массу нежного света в небе или воде, производящую сильное впечатление благодаря своему количеству, и большую выделяющуюся на нем массу нежной тени на листьях, горах или зданиях, но свет постоянно смягчен, если он находится на