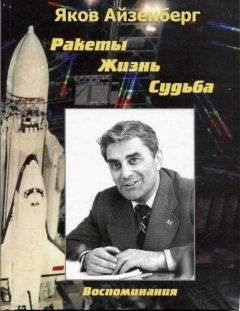И еще несколько, возможно, случайных. Тех же «фонетиков» цитирует Лев Лосев, говоря о Виноградове как о «серьезном, последовательном и лиричном абсурдисте».[4] Даже ограниченное знакомство с текстами Виноградова все-таки позволяет кое-что добавить к этой характеристике. Хотя бы то, что в своих коротких вещах Виноградов развивает оригинальный жанр парадоксального афоризма. Что Виноградов вообще изобретатель новых жанров, а его замечательные книжки-объекты принадлежат одновременно и литературе, и каким-то смежным видам искусства. Их художественный эффект непосредственно связан с разного рода неожиданностями, ждущими читателя (зрителя?) при медленном перелистывании, и как любой «визуальный объект» они совершенно не поддаются неаутентичному воспроизведению.
Сказать что-нибудь о стихах Александра Кондратова я сейчас не решусь. Немногие опубликованные вещи напоминают фрагменты какого-то цельного и на редкость объемного литературного проекта. Судить нужно о целом, а детали не дают такой возможности.
Кондратов и Виноградов, пожалуй, самые «непроявленные» авторы этого круга. Но выявить какие-то закономерности возникновения и роста поэтической популярности очень сложно, да это и не наша тема. Владимир Уфлянд, например, известен не один десяток лет, и сама его известность имеет уже какую-то свою биографию. Об Уфлянде нередко писал Иосиф Бродский, считая его одним из двух своих учителей. Сейчас уже сложно обнаружить подлинный источник влияния. Очередную литературную загадку помогает решить проницательный Лев Лосев: «Подлинность поэзии Уфлянда в том, что он не встает на табуретку, чтобы петь стихами, а лишь слегка модулирует звучащую вокруг речь – то контрастными сочетаниями, то метрической паузой, а главное – своими изумительными рифмами. (Кстати, если Бродский чему-то и научился у Уфлянда, как он любит говорить, то, скорее всего, этой свободе обращения с обыденной речью и искусству рифмовать».[5])
Уфлянд одним из первых в новой русской поэзии обнаружил возможность полного литературного отстранения: раздельного существования автора и героя. Именно герой (то есть герой, играющий автора) становится предметом творческого замысла, творческого изобретения. Черты героя, его словарь, его образ мыслей и составляют суть поэтического высказывания. Стихи Уфлянда сродни пародийной прутковской стилизации анонимного – в природе не существующего – образца, симулирующей и серьезность мысли, и образ автора в целом.
Крестьянин крепок костями.
Он принципиален и прост.
Мне хочется стать Крестьянином,
вступив, если надо, в колхоз.
Автор здесь стилизован в той же степени, что и высказывание: он становится персонажем произведения. Этот автор-персонаж – некий условный «советский человек», наделенный всеми полагающимися добродетелями, но одержимый страстью выражать свои чувства в соответствующих – не слишком ловких, несколько топорных – выражениях, дающих эффект и абсурдный, и уморительный одновременно. К реальному Уфлянду он явно не имеет никакого отношения, но это «вживание в роль» предполагает какое-то любование (пусть издевательское) избранным образцом и, главное, необходимость «чужого» языка. Это совсем новый симптом. Много позже такие вещи проявят и разовьют соцарт и концептуализм.
Я дважды цитировал высказывания Льва Лосева о поэзии его друзей и еще не раз с трудом удерживался от того, чтобы передоверить высказывание именно ему. Короткие характеристики Лосева на редкость точны, и в них есть крепость – следствие долгой, хорошей «выдержанности». Это неудивительно. «Мои творческие запросы сполна удовлетворялись чтением их чудных сочинений», – пишет Лосев в предисловии к первой книге своих стихов «Чудесный десант» («Эрмитаж», 1985), перечисляя имена Кулле, Ерёмина, Виноградова и Уфлянда (а еще Бродского, Горбовского и Рейна). Так Лосев объясняет читателю, почему сам начал писать стихи только в тридцать семь лет. Объяснение одновременно и очень откровенное, и очень подозрительное. Исследователю стоило бы подыскать собственную версию.
Впрочем, биография писателя – часть его интеллектуальной собственности, и в нашем случае авторская воля накладывает вето на подозрения в своеобразной литературной мистификации. Решение Лосева явно не случайно: в нем заметен серьезный литературный (если не философский) подтекст.
37 – цифра для поэта очень значащая. Смерть в этом пушкинском возрасте по-своему почетна, она традиционно подтверждает подлинность дара и масштабность призвания. В таком свете решение о начале поэтической деятельности в тридцать семь лет выглядит творческой новацией, – хотя бы из-за необычности и смелости авторской рефлексии. Это как бы жизнь-с-конца.
Но Лосев так выворачивает свой возрастной сюжет, что тот начинает работать не против, а на него. Читательский опыт и точное знание ситуации определили способ его литературного существования: на границах чужих зон, в не замеченных другими лакунах. Принадлежность Лосева к «филологической», «ленинградской» и так далее школам и очевидна, и совершенно формальна. Его поэтический ареал как будто покрывает всю наличную, готовую поэзию, но при этом автор находит там места, совершенно необитаемые.
Любой пишущий сразу же ревниво заинтересуется такой историей с литературной географией. Чем утешить беднягу? Разве что вместе с ним постараться понять поэзию Лосева как развивающийся сюжет, в который не всякий решится вписать свою литературную судьбу.
Лосев – профессиональный филолог, и это очень чувствуется в его стихах. Как профессионал, он понимает, что нельзя придумать новую поэзию, но можно создать новый род авторства: можно изменить речевое поведение. Прямой риторический ход (свойственный, например, Бродскому) Лосев подменяет риторической оговоркой, скороговоркой, дополнением, комментарием. Ослышки и каламбуры, контаминации, полуанекдотические детали («Под стрехою на самом верху / непонятно написано ХУ») заведомо не претендуют на высокие значения. Слова находятся друг с другом в каких-то нервических усмешливых контактах. Кроме того, Лосев прямо вводит в стих такие жанры, как мемуар, очерк, фельетон. Иногда целиком отдает высказывание антагонисту или речевому антиподу, и таких вещей у Лосева очень много («Деревенская проза», «Валерик» и др.). Многие его вещи можно принять за пародию на те стихи, которые мог бы писать Лосев, если бы не был так образован и так склонен к рефлексии.
Как ныне прощается с телом душа.
Проститься, знать, время настало.
Она – еще, право, куда хороша.
Оно – пожило и устало.
«Прощай, мой товарищ, мой верный нога,
проститься настало нам время.
И ты, ненадежный, но добрый слуга,
Что сеял зазря свое семя.
И ты, мой язык, неразумный хазар,
умолкни навеки, окончен базар».
Возраст автора и возраст его поэтики не всегда совпадают. Охотное самопародирование и «ирония стиля» делают Лосева автором следующего по отношению, скажем, к Бродскому поколения (хотя реально он даже старше Бродского на три года). При желании его поэтику можно описать только в терминах постпоэзии: иронический коллаж, цитатность, жанровая амбивалентность (перманентное «опрокидывание» высоких жанров в низкие и наоборот).
И такое описание станет безусловной критической ошибкой, вызванной отсутствием «общего плана», то есть невниманием к тому сюжету, о котором только что шла речь.
Литературная судьба Лосева – это, как нам кажется, действительно жизнь от конца к началу. И с самого начала (конца?) ее сопровождает точное понимание литературной ситуации со всеми тягостными условиями и как будто неразрешимыми проблемами. Но такая ситуация и сама по себе проблема: проблема, требующая частного решения. Это данность, но данность податливая. Каждый волен что-то в ней изменить – себе на пользу и другим в пример.
Обозначая начальные условия своей поэтической деятельности, Лосев демонстрирует незаурядное авторское смирение, тщательно маскируется и выдает себя за поэта «после поэзии», шагающего вслед поэту-герою по-клоунски мешковато, умело неуверенно. Так – заранее заявляя о своей непритязательности, дополнительности – стихи накапливают энергию преображения и прорыва. Ускользают из-под спуда внешних характеристик, чтобы на вольном движении интонации или перебое лирического дыхания вернуться в ту «родную речь», чей облик (чудесно подделанный под частотный словарь) завершает стихотворение «Иосиф Бродский, или Ода на 1957 год»:
душа крест человек чело
век вещь пространство ничего
сад воздух время море рыба
чернила пыль пол потолок
бумага мышь мысль мотылек
снег мрамор дерево спасибо
«От окраины к центру» – все помнят это название раннего стихотворения Бродского. Такой путь в поэзии прошел Лосев. И его заслуга не становится меньше оттого, что победу над внешними обстоятельствами (прежде всего над той самой «литературной ситуацией») он разделил с несколькими своими друзьями.