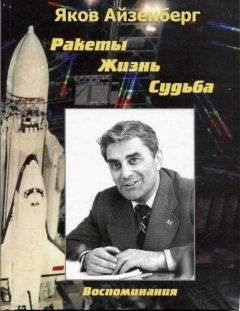Это была (и есть) эпоха подозрений. Под подозрением находилось и собственное существование. Но обретение письма было равнозначно обретению уверенности, доказательству от обратного: то, что порождает живое искусство, не может быть мертвым; люди, у которых что-то здесь получается, заведомо не мертвы.
А вообще все было довольно весело. Но и эту фразу надо зачеркнуть отрицающим уточнением: все могло бы быть весело, если бы не депрессивное, просто убийственное ощущение, что это – навсегда. Что так и подохнешь, как таракан в щели.
Я все это к тому, что именно в семидесятые годы уход в литературное подполье был естественным решением. Почти не проблемой. Время все решило за тебя. Состояние советских журналов было настолько незавидным, что стихи, появлявшиеся на их страницах, становились принадлежностью какого-то особого, именно теневого литературного пространства. Сам факт публикации поменял содержание: он уже не удостоверял твою профессиональную состоятельность, значительность. (Вероятно, в полном невнимании к советским печатным изданиям был и определенный перехлест. Помню, например, домашний семинар, где приглашенный специалист докладывал об отечественных новинках с такой обзорной пунктуальностью, как будто речь шла о не известной никому литературе.)
Я не смог бы ответить на дежурный вопрос: «Сколько лет тебя не печатали?», потому что не знаю, откуда считать. С первого написанного стихотворения? С первого отвергнутого стихотворения? Но мои стихи никогда не отвергались. Я никому не дал такой возможности. Ритуальный обход редакций даже не замысливался – по разным причинам, в частности, и как дело изначально безнадежное. Товар был совершенно неходовой. А в середине семидесятых мои стихи начали печатать зарубежные журналы, ситуация определилась и существенно не менялась до второй половины восьмидесятых, когда перепад общественного давления стал постепенно подталкивать подпольных авторов к другим, непривычным формам публикации.
Но я не думаю, что можно говорить о полном (и окончательном) конце андеграунда. Сложившиеся и устойчивые системы не исчезают бесследно. Кроме того, урок приватного, даже маргинального литературного бытования оказался, на мой взгляд, очень актуальным. Есть в нашем времени, в историческом воздухе, что-то заставляющее усвоить этот урок без сопротивления. Но это отдельная большая и сложная тема.
А вот вопрос об андеграунде и истеблишменте, по-моему, следовало бы перевести в прошедшее время. Он давно решен в пользу неизменного и вечного. Андеграунд мог бы превратиться в истеблишмент, если бы был монолитным отрядом, заранее выстроившимся «свиньей» для смещения всех иерархий и замещения всех постов. То есть тем, чем его в перестроечном испуге вообразили. Несколько подпольных авторов, правда, получили статус ньюсмейкеров – те, кто вышел к читателю до «великого перелома», на первой волне публикаций. Но даже в их поведении нет-нет да и скажется иной «сословный инстинкт». И в свете софитов они выглядят не слишком убедительно. Не осанисты, полировки не хватает. Выправка не та. В президиумах ерзают, не следят за выражением лица. Откровенно жаждут выбраться покурить.
Авторы менее расторопные опубликованы малотиражно и по существу остаются в тени (только тень не такая густая). Имена многих поэтов первого ряда до сих пор знакомы только особо дотошным читателям, которых уже смело можно называть исследователями.
У меня есть этому свое объяснение, прямо связанное с понятием ответственности. Есть ответственность, от которой автора освобождало подполье: ответственность перед редактором и перед кривотолками враждебного прочтения. Но эта свобода с лихвой компенсировалась ответственностью перед читателем-соавтором. Такой «штучный» читатель был незаменим, а лишиться его было крайне просто: достаточно одного подозрения в том, что его слегка морочат. Он доверял автору, охотно шел на совместный эксперимент, и в таких условиях даже очень герметический художественный опыт имел некоторый общественный резонанс. Но понятия «публика», «публичность» к такому контакту с читателем совершенно неприменимы.
«Новая волна», вышедшая на поверхность в перестроечное время, уже обращалась к читателю публичному. У нее был свой метод работы с публикой: экстравагантный художественный жест, смысл которого неясен, но непривычен, интересен. Такая артистическая интрига была внешней даже по отношению к глубинным движениям самой «новой волны». Тем более она не имела отношения к основным стратегиям андеграунда. Но те, кто выступал от его имени, не дали новому читателю возможности это почувствовать.
Ситуация оставляет впечатление упущенной уникальной возможности. Читатель середины восьмидесятых чувствовал тайное биение пульса литературного подполья и был открыт новым впечатлениям. Но не всяким. Небрежную и напористую интригу, нарочито диковинную риторику и рекламную игру он явно воспринял с удивлением, несколько брезгливым. «Так вот что такое андеграунд! А жаль». Удивление скоро перешло в равнодушие, ну а дальнейшее, как водится, молчание. Мечта о читателе, которой три десятилетия жило литературное подполье, не сбылась.
Заявленная тема, разумеется, слишком широка для небольшой статьи. Речь пойдет не о границах, а об одной пограничной черте, за которой так называемое «актуальное искусство» стало катастрофически быстро терять связь со зрительским и личным опытом многих прежних приверженцев. Первый период недоумения и разочарования относится примерно к началу девяностых годов. То есть прошло уже достаточно времени для того, чтобы объяснить если не другим, то себе мотивы этого расхождения.
Искусство для меня не профессия, а та область, где мой контакт с миром наиболее определен, безусловен. Искусство – возможность определенности.
Любые, почти инстинктивные реакции притяжения и отталкивания (вроде движений утопающего) имеют тем не менее культурный характер. Любая, пусть и чужая, удача раздвигает твое жизненное пространство, что-то определяет, помогает жить. Художественная удача становится общественным событием. Новый опыт совмещает ткань текста и ткань существования, а самым острым сюжетом-переживанием становится возможность/невозможность такого совмещения.
Сведение этого сюжета к перебору возможных вариантов, к реализации доступного или артистической игре лишает его возможности выхода в другое состояние, иными словами, делает недействительным, недейственным.
Где-то здесь и проходит граница, разделяющая две эпохи. Чем жестче и агрессивней становились методы нового искусства, тем дальше уходило оно от диалога с каждым – то есть от той самой актуальности. Искусство стало существовать не во времени, а в особом музейном пространстве с ежедневно сменяемой экспозицией. Некий вид деятельности задает определенные границы, за которые не может, да и не имеет в виду выходить. Это как будто противоречит основным манифестируемым идеям, но публикация манифеста не означает его реализации.
Любое явление актуального искусства почти помимо нашего желания воспринимается не как собственно эстетический объект, а как объект экспертной оценки: ему сразу подыскивается предположительный аналог в каком-то гигантском умозрительном каталоге мировой практики (огромном модном журнале). В этой периодической таблице культуры все места предположительно заняты, но можно кого-то чуть потеснить. Как? Как водится – силой.
Такой подход считается объективным. На деле устранение интуиции, вкуса и, главное, свободы частного мнения открывает дорогу самой чудовищной манипуляции.
Но что делать людям, для которых искусство существует не в форме разоблачения всех и всяческих претензий на возможность искусства? Кто защищает их интересы, их право голоса? И как, собственно, может быть озвучено это право?
Можно заметить, как изменились даже не критерии оценки, изменилась сама способность различения. Может быть, эта способность была напрямую связана с необходимостью пограничных маневров. При замыкании искусства в границах того неомузейного пространства, о котором уже шла речь, перестает работать основное различение «живое-мертвое». Живое, то есть становящееся жизнью – художественным переживанием, соприродным личному опыту.
При устранении такого критерия различение идет по попутным обстоятельствам: по вторичным художественным признакам. Это дает невиданные ранее возможности «конвертировать» искусство, а перед самим искусством встают новые проблемы конвенционального успеха и конвенциональных достоинств – достоинств по договоренности. Более чем понятно, кто и почему решает эти проблемы наиболее успешно.
Новое время принесло много неожиданностей. Например, полное изменение характера деятельности некоторых авторов, признанных лидеров 70 – 80-х годов. Эстетическая провокационность, бывшая когда-то оборотной стороной тонкой и лукавой артистической игры, стала прямолинейной и неизобретательной, грубо-идеологичной и по-человечески крайне неприятной. Стало искусством для журналистов. Методы приватизации общественного внимания, конечно, отличаются от методов приватизации собственности, но, в общем, не принципиально. Приходится эти методы усваивать, попутно что-то меняя в собственном устройстве.