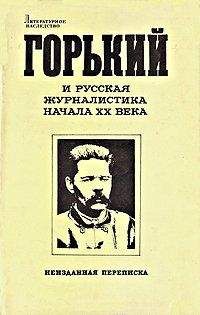«— Заведение хорошее, — повторяет он, — и книги, и божество.
— Хорошее божество, — повторяю я за ним.
— Николай явленный, — показывает мне радостно жрец на темную старую икону — В ручье явился.
— Черный… — говорю я, — ничего не понять.
— Зарудел, — отвечает старик, и протирает святой лик рукавом. Да, это боги, думаю я, настоящие боги… Ребенком знал я их, чтил,
боялся и поклонялся. Страшные, но все-таки милые детские боги.
— Божество хорошее, — твержу я бессознательно.
— Хорошее божество, все заведение хорошее, — повторяет, за мной радостно кроткий жрец» (III, 47–48).
Не принимает черного бога М. Пришвин, но народную веру глубоко чувствует и переживает. Стоит прочесть ту главу его книги, в которой он описывает свою веру в «град невидимый», Китеж, в подземное «Знаменье», «Здвиженье», «Успение» (III, 130–135), свои беседы с раскольниками, свое отношение к ним. Но черного народного Христа-он взять не может. Есть другой Христос-«ясный, милостивый», не осуждающий греха, не проклинающий мира. И когда наш автор берет этого Христа светлого, «зеленого», «солнечного», который не говорит, что «все грех», но светло и радостно провозглашает: «ни в чем нет греха», то светлый Христос его оказывается на одно лицо с Великим Паном…
V.
«В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком» и «У стен града невидимого»-эти три книги вполне определяют литературное лицо М. Пришвина и сущность его художественного творчества. Он сделал и последующий шаг: перешел к форме рассказа, повести, перешел к фабуле, иной раз возвращаясь и к прежнему типу своих писаний- к типу quasi-эпических описаний путешествия. Таков его большой очерк «Черный араб» (1910 г.), сводящий к одному художественному фокусу впечатления автора от путешествия в киргизских степях. Снова автор лицом к лицу с Великим Паном, — но на этот раз Пан одет киргизом; огромный, всезаполняющий сидит он среди бесконечной степи, в широком халате, с нагайкой в руке, с лоснящимися скулами и щелками вместо глаз… В стиле-новый шаг вперед: еще никогда не писал М. Пришвин так ярко и так просто, с такой художественной наивностью, с такой обманчиво-легкой простотой. «Черный араб» был только одной главой новой книги М. Пришвина, и вся эта книга в рукописи сгорела у автора. Если вся книга была так же хороша, как и «Черный араб», то мы лишились прекрасного художественного произведения. В тех же тонах написан и очерк «Птичье кладбище», о котором приходилось уже упоминать выше.
Но, повидимому, этими очерками завершается целый период художественного творчества М. Пришвина. Он искал и находил Великого Пана в онежских лесах, среди лапландских озер, в Ледовитом океане, в заволжской равнине, в киргизских степях; но теперь он показывает нам своего «светлого бога» в человеческой душе, переходя к форме рассказа и повести. Таков небольшой его рассказ «У горелого пня» (1910 г.), такова и большая повесть его «Крутоярский зверь» (1911 г.). Это еще только первые шаги по новому пути, но по этим первым шагам можно с уверенностью заключить, что М. Пришвину предстоит впереди своя особая широкая дорога. Основную, постоянную тему повестей и рассказов этого писателя можно предсказать заранее-и я уже отметил, что темой всего творчества М. Пришвина была и будет примитивная стихийная душа. История этой примитивной души, Павлика Верхне-Бродского, ярко обрисована в «Крутоярском звере»; красочный реализм первой половины повести, кошмарно-фантастическая вторая половина-одинаково блестящи и сильны. При этом-живые типы и образы, и настоящая, непроизвольная, бессознательная стихийная глубина. Достаточно прочесть хотя-бы только третью главу повести, описание нервов охоты, чтобы увидеть подлинность этой глубины стихийности, слиянности с жизнью лесной и луговой, слиянности с жизнью земли-с космической жизнью. Многого и многого можно ожидать от художника, так написавшего первую свою повесть.
Что будет-увидим, но уже теперь видно, что о творчестве М. Пришвина можно говорить и должно говорить. Пора понять, что М. Пришвин вовсе не «этнограф», вовсе не объективный наблюдатель, вовсе не «эпик» наоборот, он интимнейший лирик, он субъективнейший из поэтов — и притом поэт космического чувства, поэт вселенского чувства, призванный бард светлого бога, Великого Пана. И, наконец, — он истинный Божиею милостию художник. Когда все это поймут, то имя М. Пришвина выйдет, наконец, из незаслуженной неизвестности и займет свое особое значительное место в русской литературе нашего времени.
1910–1911 г.г.
Алексей Толстой теперь в «моде»: о нем говорят, кричат, пишут, его всячески восхваляют и превозносят. И действительно, он талантлив, он «подает надежды»; поговорить о нем стоит. К тому же и повод, достаточный есть: молодой автор уже выпустил в свет не безделушку, не пустяк, не мелкий рассказ или повесть, а целый роман в двух частях, с эпиграфами из Пушкина и Боратынского…
Чехов к концу жизни как-то конфузился небольшого размера своих рассказов и все собирался написать роман листов этак в 20–30. Конечно, небольшой «художественный» рассказ может перевесить многотомный «беллетристический» роман, это-азбучная истина, но все-таки мы знаем, что Чехов так-таки и не написал романа «в шести частях, с прологом и эпилогом», в то время как таких романов ежегодно появлялось по несколько штук: просмотрите журналы восьмидесятых и девяностых годов.
Разумеется, дело тут не в форме. Кому-кому, а уж Чехову не представляло никакого труда придумать сложнейшую фабулу для громадного романа. Дело здесь не в форме, а в сущности. Художник должен сознавать, что ему есть что сказать в задуманном романе. Достоевскому и Толстому было тесно и в рамках громадного романа, ибо им, поистине, было что сказать; такого права Чехов за собой не сознавал. И уже одно это показывает, каким большим и истинным художником он был.
Современные художники далеки от сомнений Чехова. Не говорю уже о бесчисленных «беллетристах» ремесленниках: для них ничего не стоит испечь роман какой угодно величины и с какой угодно начинкой. Но даже более одаренные писатели, с несомненным художественным даром, — они, не задумываясь, напишут вам роман и в 20, и в 30 листов. Вот, например, роман в 33-х главах г-жи 3. Гиппиус «Чортова кукла». Для чего он написан? Это, вероятно, для автора не меньшая тайна, чем для читателей. Очень грамотно, прилично, с навыком, с недурно схваченными мелочами, но скучно, вяло, а главное-никому не нужно, и не нужно потому, что автор не задался вопросом: да полно, есть ли что мне сказать в большом романе? Нет художественной чуткости, молчит художественная совесть, и в результате-Чехов так и не написал романа, а г-жа Зинаида Гиппиус храбро села и написала «Чортову куклу». Есть на свете «лишние люди», почему не быть и «лишним романам»?
Или вот роман гр. Алексея Н. Толстого «Две жизни». О нем, впрочем, следует поговорить подробнее, именно в виду того, что молодой автор-несомненный художник и «подающий надежды» талант. О нем теперь много пишут, чрезмерно восхваляют, — и это очень жаль, так как начинающему писателю восторженные и преувеличенные похвалы всегда опаснее сурового порицания. Результат похвал на-лицо: Ал. Толстому показалось, что он может и роман написать. Конечно, может; но опять-таки, конечно, не задавался он вопросом, есть что сказать ему в романе или нет.
Ал. Толстой дебютировал стихами и томиком очень милых «Сорочьих сказок». Ни в стихах, ни в сказках он не сказал никакого «нового слова», да и зачем же непременно ждать от начинающего писателя «новых слов»? В стихах были отзвуки Городецкого, Брюсова и Блока, в сказках-отражения «Посолони» Ремизова и сказочек Сологуба. Но все это было, несомненно, со своим запахом, все было очень мило, иной раз очень хорошо и очень часто художественно. Почти одновременно с этим появились и первые рассказы А. Толстого, обратившие на себя внимание. А так как в наше время не успеет автор написать десять рассказов, как уж издает собрание своих сочинений, то и рассказы Алексея Толстого уже вышли отдельным томом: «Сочинения. Книга первая»[4].
В этой «первой книге» помещено несколько рассказов, из которых одни очень слабы («Архип», «Сватовство»), другие-недурны («Два друга», «Неделя в Туреневе») и, наконец, два лучших рассказа («Заволжье» и «Аггей Коровин») действительно заслуживают внимания. В них обрисовывается вся литературная физиономия А. Толстого, как автора повестей и рассказов, в них весь «пафос» его творчества. Критика уже отмечала, что Ал. Толстой-певец отмирающих «дворянских гнезд», которые, к слову сказать, «отмирают» вот уже полвека. Два основных типа вымирающих дворян видит и знает Ал. Толстой: это-либо Мишука Налымов из «Заволжья», дворянин старого закала, с арапником, со сворами псов, с гаремом, буйно прожигающий нелепую жизнь, либо Аггей Коровин-мягкий, грузный, дряблый, безвольный, мечтающий. И типы эти очерчены действительно интересно, красочно: в существование этих людей веришь, хотя бы и не было таких. А это великое дело, когда художник заставляет читателя верить; это-первый признак подлинного искусства.