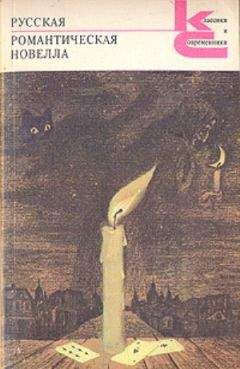Таким образом, форма – в рамках своего особого диалекта, стиля – это проект будущего оттиска в чувствах воспринимающих, посредник в сделке между немедленным чувственным отпечатком и памятью (будь то индивида или культуры). Эта мнемоническая функция объясняет, почему всякий стиль зависит от – и может быть подвергнут анализу по критериям – некоего принципа повторяемости или информационной избыточности.
Этим же можно объяснить и сложности нынешнего момента в искусстве. Если раньше стили развивались медленно, поступательно сменяя друг друга в течение продолжительного периода, позволяя публике полностью усвоить принципы повторения, на которых построено произведение искусства, то сегодня они меняются со скоростью, не дающей аудитории передохнуть и подготовиться. Однако если мы не можем видеть, как произведение повторяет себя, то оно почти буквально становится незаметным, а потому, в то же самое время, непостижимым. Мы постигаем произведение, отмечая повторения. Пока мы не уловим – нет, не «содержание», но принципы разнообразия и избыточности (и баланс между ними) в «Зимней ветке» Мерса Каннингема или камерном концерте Чарльза Вуоринена, в «Голом завтраке» Берроуза или в «черных» картинах Эда Рейнхардта, эти работы неизбежно покажутся нам скучными, безобразными или запутанными – либо всем этим вместе.
У стиля есть и другие функции, помимо, в широком смысле слова, мнемонической, о которой я только что говорила.
Так, любой стиль воплощает некое эпистемологическое решение – интерпретацию того, как и что мы воспринимаем. Лучше всего это видно на примере современного, рефлексивного периода в искусстве, хотя не менее справедливо и для искусства в целом. Стиль романов Роб-Грийе, скажем, выражает вполне объективное, хотя и несколько узкое, понимание взаимоотношений между людьми и вещами, а именно: люди могут быть вещами, но не наоборот. Бихевиористская трактовка людей у Роб-Грийе и его отказ «антропоморфизировать» вещи равнозначны определенному стилистическому решению – дать объективный отчет о визуальных и топографических свойствах вещей, фактически исключив все разновидности чувств, кроме зрения, поскольку, вероятно, предназначенный для их описания язык менее точен и беспристрастен. Закольцованный репетитивный стиль «Меланкты» Гертруды Стайн выдает ее интерес к растворению непосредственного восприятия в запоминании и предвосхищении – к тому, что она называет «ассоциированием» и что затмевается в языке системой глагольных времен. Акцент, который Стайн ставит на укорененности опыта в настоящем, идентичен ее решению ограничиться настоящим временем, выбирать банальные короткие слова, бесконечно повторяя их сочетания, использовать максимально свободный синтаксис и по большей части отказаться от знаков препинания. Каждый стиль – это способ поставить на чем-то акцент.
Легко убедиться, что стилистические решения, сосредоточивая наше внимание на одних вещах, одновременно сужают его, не позволяя видеть другие. Однако бо́льшая привлекательность одного произведения по сравнению с другим основана не на том, что его стилистические решения дают нам больше разглядеть, а скорее на бо́льшей интенсивности, авторитетности и умудренности этого взгляда, сколь бы узким ни был фокус видимого.
В строгом смысле слова, непередаваемо всё содержимое сознания. Даже самое простое ощущение в его тотальности неописуемо. Любое произведение тем самым следует понимать не только как выражение чего-то, но и как определенную работу с невыразимым. В великом искусстве всегда чувствуешь недосказанность (правила «сдержанности»), противоречие между выразительностью и присутствием невыразимого. Стилистические приемы – это также и механизмы умолчания. Наиболее эффектными элементами произведения зачастую оказываются его паузы.
Сказанное мной о стиле было направлено в основном на прояснение некоторых заблуждений относительно произведений искусства и способах говорить о них. Но не забудем, что понятие стиля применимо к любому опыту, если иметь в виду его форму и качества. И если многие произведения искусства, с полным правом претендующие на наше внимание, несовершенны или не идеальны по предложенным мной меркам, то и многие элементы нашего опыта, которые никак нельзя причислить к произведениям искусства, обладают некоторыми качествами художественных объектов. Как только речь, движение, поведение, предметы демонстрируют некоторое отклонение от самого прямого, рационального и бесстрастного способа выражения или бытования, мы можем считать их наделенными «стилем» и в этом качестве независимыми и образцовыми разом.
[1965]
Пер. Сергея Дубина
Художник как пример мученика
Самый богатый стиль – это обобщенный голос главного героя.
Павезе
Чезаре Павезе начал писать в тридцатые годы, а все его переведенные и опубликованные у нас вещи – «Дом на холме», «Луна и костры», «Среди женщин», «Дьявол на холмах» – были созданы в 1947–1949 годах, поэтому читатель, ограничивающийся английскими переводами, не может составить представления о его творчестве в целом. Однако, если судить по этим четырем романам, основными достоинствами Павезе как писателя представляются утонченность, немногословие, сдержанность. Манера изложения ясная, сухая, холодная. Можно отметить бесстрастность прозы Павезе, хотя речь в ней часто идет о насилии. Это объясняется тем, что на самом деле в основе сюжета всегда лежит не насилие (например, самоубийство в «Среди женщин»; война в «Дьяволе на холмах»), а сдержанная личность самого рассказчика. Для героя Павезе характерно стремление к ясности, а его типичная проблема – невозможность общения. Все эти романы – о кризисе сознания и об отказе разрешить этот кризис. В них заранее предполагается некое притупление эмоций, ослабление чувств и телесной витальности. Страдания преждевременно растерявших иллюзии, высокообразованных людей, у которых ирония и грустный опыт собственных эмоций сменяют друг друга, вполне узнаваемы. Но в отличие от других разработок этой жилы современной чувствительности – например, большей части французской прозы и поэзии последних восьмидесяти лет – романы Павезе лишены сенсационности и строги. Автор всегда относит главное событие либо за пределы места действия, либо в прошлое, а эротических сцен странным образом избегает.
И словно для того, чтобы компенсировать разъединенность своих героев, Павезе, как правило, наделяет их глубокой привязанностью к родным местам – это обычно либо городской пейзаж Турина, где Павезе учился в университете и прожил почти всю свою взрослую жизнь, либо сельская местность под Пьемонтом, где он родился и вырос. Это ощущение истоков и желание найти и вновь обрести их значимость ни в коей мере не придает произведениям Павезе местного колорита, и, возможно, этим частично объясняется неспособность его романов вызвать у англоязычных читателей восторг наподобие того, с каким они встречают произведения Силоне или Моравиа, хотя Павезе гораздо одареннее и своеобразнее каждого из них. Ощущение пейзажа и людей у Павезе не те, каких ждет читатель от итальянского писателя. Но Павезе родом с севера Италии, а Северная Италия – не та Италия, какой ее хочет видеть иностранец, и Турин – большой промышленный город, не вызывающий исторических ассоциаций и не являющийся воплощением чувственности, что привлекает иностранцев в Италии. В Турине и Пьемонте Павезе читателю не найти ни памятников, ни местного колорита, ни чисто итальянского обаяния. Место присутствует здесь, но лишь как недостижимое, анонимное, нечеловеческое.
Ощущение писателем связи человека и места (способ воздействия на людей безличной силы места) знакомо любому видевшему фильмы Алена Рене и еще в большей степени – знающему фильмы Микеланджело Антониони – Le Amiche («Подруги») (фильм создан по лучшему из романов Павезе, «Среди женщин»), L’Aventura («Приключение») и La Notte («Ночь»). Но достоинства прозы Павезе не так очевидны, как, скажем, достоинства фильмов Антониони. (Те, кто не принимает фильмов Антониони, называют их «литературными» или «слишком субъективными».) Подобно фильмам Антониони, романы Павезе изысканны, полны лакун (не затемняющих смысл), спокойны, не драматичны, сдержанны. Павезе не такой мастер, как Антониони. Но он заслуживает гораздо большего внимания в Англии и Америке, чем ему уделялось до сих пор[11].
Не так давно на английском языке появились дневники Павезе с 1935 по 1950 год, когда он покончил с собой в сорока двухлетнем возрасте[12]. Их можно читать не будучи знакомым с романами Павезе как образец современного литературного жанра – «дневники», «записные книжки» или «журнал» писателя.
Зачем мы читаем дневники писателя? Потому что они поясняют смысл его книг? Довольно часто этого не происходит. Скорее, просто из-за живой формы дневниковых записей, даже написанных с оглядкой на возможную будущую публикацию. Здесь мы читаем человека, пишущего от первого лица; мы обнаруживаем эго писателя под масками других эго в его произведениях. Никакая степень откровенности в романе не может заменить этого, даже если автор пишет от первого лица либо использует третье лицо, за которым явно виден он сам. Большинство романов Павезе, включая те четыре, что переведены на английский, написаны от первого лица. Но мы прекрасно знаем, что «я» в романах Павезе не идентично самому писателю, как Марсель в «Поисках утраченного времени» не идентичен Прусту, а К. в «Процессе» и «Замке» – Кафке. И не удовлетворяемся этим. Современному читателю требуется обнаженный автор, как во времена воинствующей веры требовались человеческие жертвы.