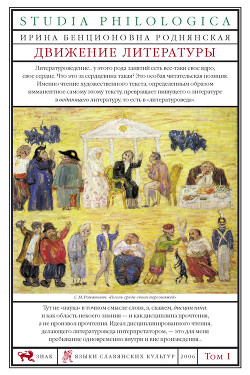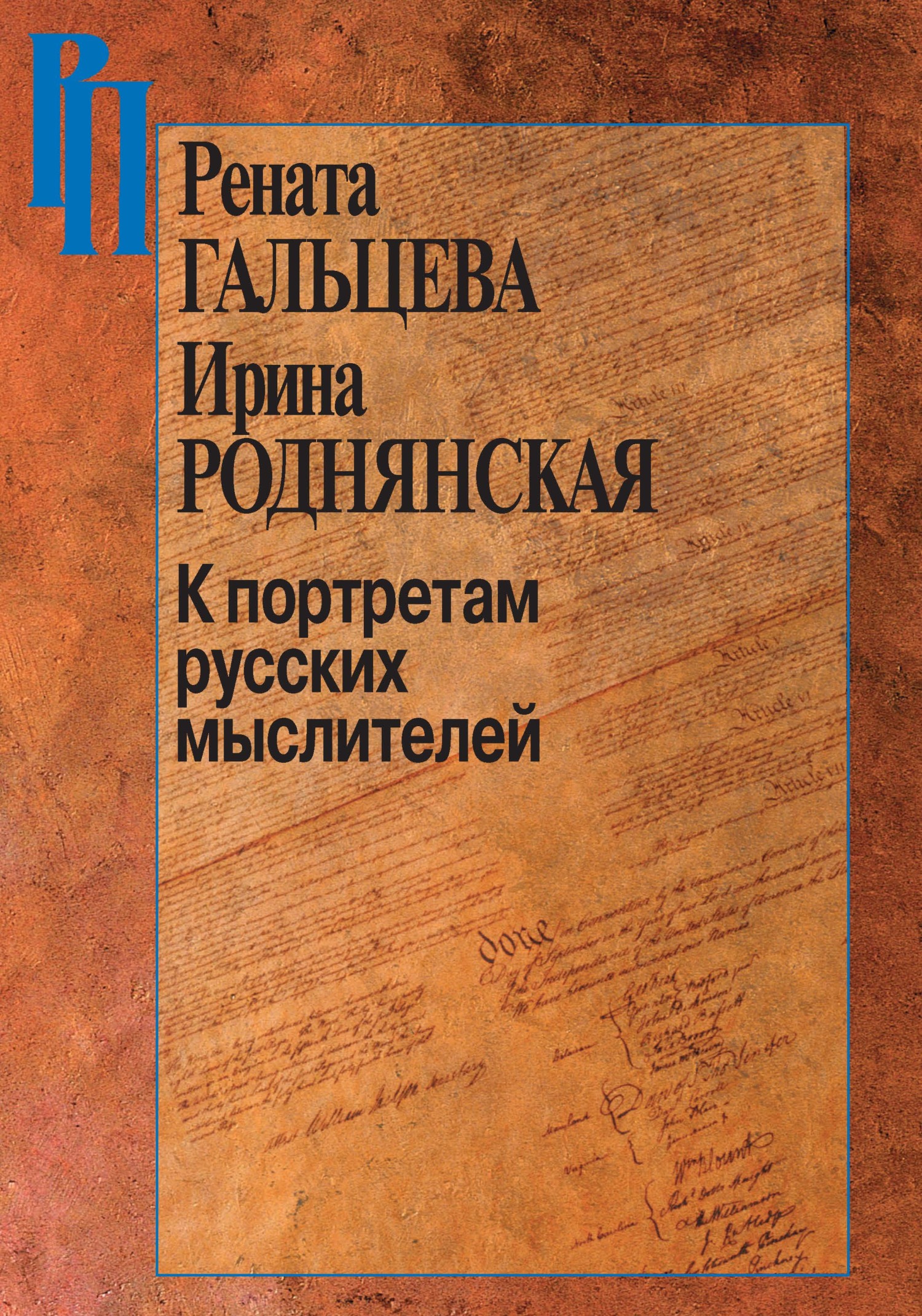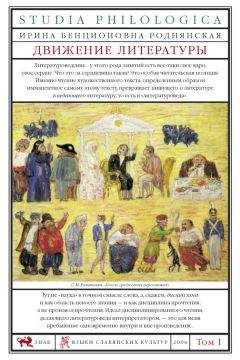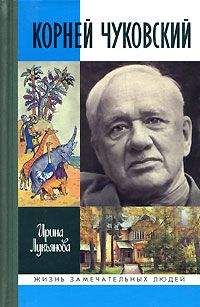С другой стороны, однако, рецензент, не до конца разобравшийся в симпатиях автора «Стражницы», мало в чем виноват. «То, ради чего он», то есть М. С., «был призван, ради чего взошел так высоко», если свериться с быто– и нравоописательной частью сюжета, оказывается сущим блефом и порчей. Фермер-обирала, губитель заповедных рощ (сколок с прежнего «кулака»), молочница и птичница, дышащие классовой мстительностью, криминальный «афганец», профессиональные нищие и несовершеннолетние преступники нового образца, сынок-коммерсант, пересевший в машину папаши-партхозяйчика – с тем же личным шофером!.. Стоило ли гробить столько народу стихией и спецназами, чтобы сложилась эдакая жизнь, пришел такой типаж?
Что это доказывает? Только одно: противопоказанность истории для данного типа литературы. Курчаткин следует двум клише сразу: либерально-публицистическому времен перестройки («гласность», «свет в конце туннеля») и «чернушному», в более позднем стиле «духовной оппозиции» («падение нравов», «социальная несправедливость» – все, что так приманчиво для натуралистического пера бывшего «сорокалетнего»). Эти линии, пересекись они на реальной исторической плоскости, могли бы вынудить автора к какому-то вразумительному балансу, к какой-то хотя бы задумчивости по поводу заявленных pro и contra. Но они не пересекутся и не высекут искру мысли в мире романа, где еще дымящаяся, обжигающая история вчерашнего дня подменена счислением знамений и примет, льстящим вульгарному мистицизму массы и скрепленным авантажными эпиграфами из Даниила Андреева и Ортеги-и-Гасета.
Сергей Чупринин, еще до выхода представивший роман публике, объяснил, что ее ждет китч, в область которого нынче переместилась живая словесность. Насчет китчевой квалификации «Стражницы» спорить не приходится. Но китч тем и отличается от наивной писанины, что изготовляется он с адресным расчетом на потребителя. Кто в данном случае намечен на роль потребителя «сенсационного» чтения? Полагаю, общество, которое не склонно помнить, что с ним происходило и произошло.
Меня до поры удивляло, что можно взять историческое лицо, скажем Николая Федорова или Иосифа Джугашвили, швырнуть его в чью-то постель или совокупить его предков каким-нибудь унизительным способом, или, допустим, начать описывать родимое пятно современного политического деятеля, изобретая сравнения для его очертаний, или физический габитус другого («медвежетелый», «хитроглазый», «с одутловато-мясистым лицом»). Как же так, думала я, ведь у этих людей, если они живы, может быть задето личное достоинство, если же мертвы, то у них есть потомки, а у кого нет, тот тем более беззащитен. Написал же Пушкин пастиш, где представил, как боковой потомок Жанны д’Арк требует удовлетворения у Вольтера, оскорбителя девы. Я перестала удивляться, когда поняла, что все эти персонажи для наших писателей истории не принадлежат, а искренно почитаются за произвольные точки приложения фантазии. [303] Сколько было крику вокруг «конца истории» – и вот этот конец неожиданно наступает, но не в бытии, где событийности хоть отбавляй, а в сознании, по крайней мере – в сознании нашего культурного истеблишмента.
В обход человека. В Евангелии от Марка есть рассказ о слепом, удостоившемся чуда исцеления. Полностью зрение вернулось к нему не сразу, и поначалу он, «взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья». То есть смутные-смутные очертания каких-то фигур. Новая проза – не на обратном ли пути от зрячести к слепоте? – тоже различает лишь абрисы людей, проходящих по ее страницам. Я уж не говорю о том, что ее все больше покидает драматический, сценический элемент (диалоги, прямой показ события, поступка) и преобладающим становится сообщение, изложение – причем не быстрое, краткое, в каком Константин Леонтьев когда-то видел преимущество пушкинской прозы перед толстовской, а буксующее, оговорчивое, длящееся сколь угодно долго. Это черта прозы модерна еще с начала века, и с такой литературной эволюцией мы уже смирились, хотя порой и профессиональный читатель готов посочувствовать читателю наивному, листающему книгу или журнал в надежде найти там типографски выделенные разговоры, то есть удобоваримую пищу.
Но это цветочки. Прискорбнее то, что, пытаясь мыслить универсалиями, проза вошла в отвлеченно-утопическое пространство, где человек с его мотивами, характером и волей обращается в пренебрегаемую условную величину и литература, как невозмутимо констатирует на своем языке Вяч. Курицын, «в перспективе теряет антропоморфного носителя».
Как бы ни спорили в прошлом веке, чем определяется человеческое поведение: средой, свободной волей или бессознательной спонтанностью, – движение сюжета определял именно человек, литературный герой. Автор, строя вещь, исходил из возможностей героя, даже из его прихотей. Человеческая экзистенция служила точкой приложения для воображения писателя. Поэтому воображение имело свою логику и не вырождалось в пустое фантазирование, которое несется на всех парах в любом случайном направлении.
Кто такая, например, Альбина-«стражница»? Жена партфункционера местного масштаба, пристроенная на какую-то синекуру в поссовете, с грубыми наклонностями и куцым кругозором, – почему она вверила себя с таким жертвенным энтузиазмом горбачевским инициативам, едва увидела «этого человека» на экране телевизора? (Неробкий автор предупредительно замечает, что «у нее не было никаких проблем с оргазмом», чтобы мы не приписали сексопатологической причине предпочтение горбачевских интересов мужниным.) А потому с ней все это приключилось, что так решено где-то в иномирной области, где располагаются даниил-андреевские «стихиали» или еще какие-нибудь силы. Мотивировка, прямо скажем, архаическая, первобытная. Уже в «Илиаде» присутствует двойственное объяснение случающегося с человеком – исходя из олимпийских интриг и исходя из его собственных душевных свойств. А здесь? – нечто вселилось, и все дела.
Курчаткин проводит свою Альбину, а Иманов – своего Иванова (в «Учителе») через разнообразнейшие перипетии: богатство, нищенство, бездомность, бегство от насильников, сексуальные взрывы и болезненное изнурение. Но движутся они в этом поле чудес, как фишки в настольной игре, повинуясь воле подброшенного кубика; им нельзя сочувствовать, потому что они человечески не причастны к собственной участи. Между тем эти муляжи приходится как-то оживлять, чтобы они вконец не наскучили. И вот их подключают к рубильнику и пропускают ток высокого напряжения. «… на нее обрушилось такое бессилие, такая неимоверная, никогда еще до того не посещавшая ее немочь, что подогнулись ноги, и она рухнула на пол, и, катаясь по нему, колотила себя кулаками, рвала, выдирала волосы, царапала, не ощущая боли, ногтями лицо и выла зверино, выкрикивала утробно, обдирая горло: – Не могу! Не могу! Не могу!..» («Стражница»). «… извилины в моей голове сжались так, как сжимаются в кулак пальцы, и я чувствовал, как они побелели от напряжения. Сознание мое оцепенело: казалось, еще мгновение, и я сойду с ума… Закричу, выбегу на улицу, споткнусь, упаду в снег, закричу, встану, и побегу опять, и так буду бежать и кричать, пока меня не схватят. И буду биться, когда они схватят, биться до тех пор, пока они не свяжут меня, пока они либо успокоят, либо убьют меня» («Учитель»).
Огорчительно, что приводить своих персонажей к внутренне мотивированному самодвижению, а не дергать как попало за руки и за ноги, разучается и проза куда более высокого разбора. Роман Михаила Кураева «Зеркало Монтачки» («Новый мир», 1993, № 5–6) – если не самая лучшая, то, несомненно, отличная и, уж во всяком случае, самая приятная (на нынешнем фоне не последнее качество) вещь из прочитанного мною за год. За вычетом всего постороннего, из чего автор пытается выстроить сюжет, никакая это не «криминальная сюита», а «сюита» из фотографий в альбоме, именуемом советской коммуналкой, в альбоме, на переплете которого запечатлен «ускользающий город» – монументально-призрачный Ленинград-Петербург. Еще бы я сравнила роман, подчеркивая его достоинства, с незабываемым феллиниевским «Амаркордом»: жизни, понятые в самом корне, внутри проживаемой ими эпохи, гротескный юмор, не препятствующий сердечности, узор арабесок и примирительный хор в финале. Но в фильме Феллини людские судьбы непринужденно зацепляются одна за другую, вплетаясь в общую жизненную ткань. Поэтому у Феллини – кино, а у Кураева – серия стоп-кадров, коллекция фоток, которые не понудишь к динамичному воссоединению, как ни шнуруй альбом, как споро ни листай его страницы.