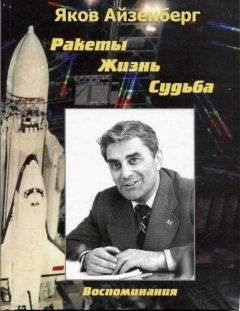Соответственно в изобразительное искусство рекрутируется другой человеческий тип…
Такая практика постепенно опустошает и как-то опресняет искусство. В этом пространстве уже нет места для чего-то, погруженного в себя или колеблющегося, непретенциозного и действительно живого. Нет места случайности и настоящей удаче, то есть совпадению намерений художника и возможностей его языка.
Явления живут и меняются, а слова остаются на месте, искусство мигрирует как кочевое племя, а ее покинутые жилища еще долго сохраняют прежние названия.
Мы видим, как на наших глазах кончается искусство, существующее на договорных началах. Своеобразная арт-мода, в которую оно перевоплотилось, занимается в основном перевешиванием ценников с одного отсутствия товара на другое его отсутствие и никого уже не имеет в виду, даже покупателя.
Такое искусство всегда кончалось быстро, почти на следующий день, но сама идея договора воспроизводилась в новых формах. Но сейчас и она кончается – договариваться стало не с кем. Эта ветвь эволюции, похоже, оказалась тупиковой.
Говорить о конце явления, стиля, эпохи почему-то легче, чем о появлении чего-то нового. Симптомы подтягиваются друг к другу охотно и бодро, как будто только и ждали подходящего сигнала. Видимо, именно поэтому может показаться, что я буду касаться каких-то финальных характеристик. В действительности же я просто не знаю их принадлежности, и это незнание накладывается на ощущение окончания большого литературного периода. Ощущение явно запаздывает, да и весь период несколько непроявлен.
Первоначально эта статья называлась «Стихи после концептуализма». Такое название сужает тему, хотя какие-то основные характеристики, очерченность этапа связаны именно с концептуализмом. Сопоставимы даже временные рамки, с той оговоркой, что даты рождения и смерти течения достаточно произвольны.
О том, что концептуализм умер, доказательно поговаривали уже в начале восьмидесятых, и доказывали это не какие-то сторонние недоброжелатели, но основные действующие лица нового в ту пору художественного движения. К тому времени концептуализм как оформленное, отмеченное специальным термином течение существовал в России всего несколько лет. Происхождение термина как будто общеизвестно, но не стоит эту общеизвестность переоценивать. Поэтому напомним, что впервые словосочетание «московский концептуализм» появилось в 1979 году на страницах русского парижского журнала «А – Я» в статье Бориса Гройса, которая так и называлась: «Московский романтический концептуализм». Определение «романтический» не выдержало проверку временем, а сам термин прижился.
Необходимость в общем обозначении, общем знаменателе деятельности целого круга художников и литераторов ощущалась уже где-то с середины семидесятых годов. Слово как бы висело в воздухе. «Московскими концептуалистами» назвали тех авторов, которых интриговали в первую очередь проблемы восприятия и функционирования искусства. То есть искусство воспринималось ими не как вещь (произведение), а как событие (ситуация). Ситуация в данном случае и является истинным произведением. Но это очень нетрадиционное понимание «произведения», и неудивительно, что видовые различия при этом теряют отчетливость. Процесс отслаивания идеи от материала шел очень исподволь, очень тонко, и именно в точке разрыва (где все еще вместе, но уже и порознь) давал самые интригующие результаты. На мой взгляд, выиграли те авторы, которые смогли в этой точке и закрепиться. Например, Лев Рубинштейн.
Но даже оставляя в стороне личные достижения, нужно признать, что многое из чисто концептуальной проблематики, как лицевой, так и оборотной, прижилось в современной художественной ситуации, как-то впиталось в нее. Литературная атмосфера столицы с начала восьмидесятых годов окрашена в постконцептуальные тона. Можно говорить о какой-то постконцептуальной действительности, хотя из этого не следует, что деятельность четырех авторов изменила всю художественную ситуацию. Концептуализм не школа, а проблема. Проблема не одних концептуалистов, но общего состояния художественного языка, но концептуалисты решают ее наиболее внятно и доходчиво.
Настолько доходчиво, что неопознанный концептуальный подтекст обнаруживается и в деятельности многих авторов, искренне считавших себя далекими от этой проблематики. Так где-то в конце семидесятых годов все, имеющие слух и интуицию, почувствовали, что готовится смена литературного режима. Когда каждая вещь пишется как последнее завещание человечеству, пишущую руку сводит судорога великой ответственности. Бот эту судорогу, ставшую для поэзии чем-то вроде «привычного вывиха», у кого-то ослабило, а у кого-то вовсе сняло появление концептуализма с его программным уклонением от личного высказывания, от его обязательности – от заведомой определенности художественного задания. С его уклонением от повинности.
Огромное значение имело то, что концептуализм – искусство открытого выявленного приема, искусство игры с приемом. Откровенность и внятность этой игры произвели некоторую революцию в умах. Концептуальная игра демонстрировала нечто более широкое, чем явление искусства: она демонстрировала особое концептуальное мышление. Это мышление оказалось очень современным и заразительным. Как бы другой класс мышления – странная раскованность, лишняя степень свободы. Каждое поэтическое движение, по видимости прямое, на самом деле представляло собой изощренный петлистый зигзаг, неуловимую восьмерку, сообщающую авторам чарующую развинченность литературных денди.
Впрочем, происхождение этой революционной игры не очень понятно. Вероятно, на этот раз революция все-таки шла снизу. Это подтверждается существованием какого-то стихийного, низового концептуализма – по виду элементарного, но не лишенного внутренней изощренности. Я имею в виду многочисленные анонимные стихи или частушки, часто не уступающие приговским. Или новый, несколько пугающий тон анекдотов. Появление новых видов фольклора. Игры – иногда виртуозные – с текстом официальных инструкций (например, в общественном транспорте). Странные граффити. Плакаты на демонстрациях и митингах первых бурных лет демократии, надписи на майках и значках (значок «Значок»). Пародийные лозунги и вообще широкое народное движение переозначивания официальной лексики и символики, по духу родственное соцарту. И еще что-то трудноуловимое. Может быть, отношение к общеизвестным, классическим литературным текстам. Страсть к искривленному цитированию, обостренное внимание к языковым искажениям и насилиям. Общий дух травестирования и пародийного отстранения.
Понятно, что очень рискованно называть это все концептуализмом, пусть и низовым. Наверняка большинство анонимных авторов даже не знают значение этого слова. Но без появления литературного концептуализма было бы невозможно увидеть в этих маргинальных фольклорных событиях какие-то общие симптомы тектонических изменений в отношениях между языком и сознанием. Говорить о постконцептуальной ситуации можно только в том смысле, что именно концептуализм представил ясную методическую схему этого по видимости хаотического движения. Сделал тайное явным.
Этот конструктивный опыт не мог не вызвать общего изменения художественных позиций. Он ясно показал, насколько другой стала ситуация. И показал всем – даже тем, кто не предполагал никаких изменений и вовсе не был в них заинтересован. Какая-то не вполне ясная мутация психологических установок и жизненных категорий в попытках оформления использует принципиальный диалогизм концептуального сознания. Даже коллажность новой поэзии, на которую так сетуют критики, есть, в сущности, другое лицо концептуальной игры с чужими голосами.
Поэзия в том числе и форма настоящего времени. Время, находившееся в неподвижном состоянии, очень сильно проявляло свою физическую природу. Оно колебалось, тяжелело, подгнивало – можно бесконечно продолжать этот достаточно произвольный ряд глаголов состояния. События как будто продули пространство времени. Концептуализм первым почувствовал грядущую перемену климата и занялся не стилевыми новациями, а проблемами стратегии и конструкции. То есть движением внутри существующего (а не созданием иной языковой реальности). Само это движение и стало главной новацией.
Все вышесказанное – по существу два-три пробных захода к осмыслению новой ситуации, которая сама по себе требует не только знания реалий, но и несколько иного способа суждения. А у нас есть своя тема, о которой не следует забывать: «Власть и т. д.».
К теме кавычек концептуализм имеет самое прямое отношение. Едва ли не основная его заслуга, на мой взгляд, – внедрение в литературное мышление самой идеи кавычек, принципа закавычивания. Множество клишированных слов и явлений существовало в нашем творческом сознании как «условно живое» и действовало на общих основаниях, внося в литературу своим жизнеподобием что-то зыбкое, хаотическое, заведомо мнимое. «Перед нами стоят ситуации, призраки, привидения, которые внешне бывают неотличимы от истины, от прекрасного, отличаясь только каким-то тоном. А именно – мертвостью этого тона. И мертвость эта показывает, что здесь что-то не то, что это из мира пляски мертвецов. Есть какой-то тон, который выдает фундаментальную разницу двух миров».[6] Можно сказать, что живые и мертвые «души» (факты и фикции) пользовались в восприятии одинаковыми правами. Концептуализм хотя бы частично освободил нас от неподобающей активности этих мнимостей. В огромной массе они оказались заведенными в какие-то литературные резервации.