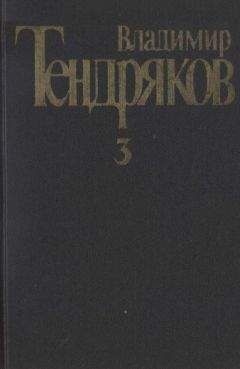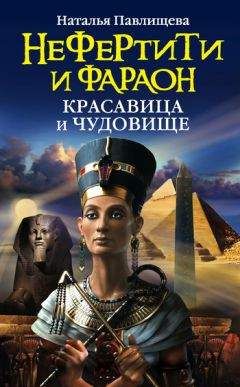Отвечая на письма читателей, откликнувшихся на публикацию очерка, он писал: «А зададимся крамольным вопросом: не грешил ли против правдивости, скажем, Шекспир, который заставлял ревнивца душить свою жену, или Лев Толстой, погнавший своего героя в Сибирь из-за угрызений совести? В жизни подобные случаи редки, даже маловероятны — и во времена Шекспира ревнивцы чаще ограничивались семейными скандалами, и угрызения совести, как правило, людей в Сибирь не гнали.
Но что, если б Шекспир и Толстой ограничились заурядной житейской правдивостью? Не безумный, а хладнокровный Отелло, князь Нехлюдов с умеренными порывами совести, Анна Каренина, не бросающаяся под поезд… Да воздействовали бы на нас столь житейские характерные образы, не отвернулись бы мы с равнодушием от такой унылой достоверности?
Художник должен быть более правдивым, чем сам факт. Он обязан не просто показывать то, что характерно для жизни, а преувеличивая характерное, доводить его до исключительности.
Я в меру своих сил пытаюсь следовать этому общему для всего искусства правилу». (Тендряков В. Беседа с письмами в руках. — Литературная газета, 1981, 20 мая.)
«Плоть искусства» была оценена как работа сугубо литературоведческая. Критик Ал. Михайлов воспринял ее как «популярную лекцию на тему „Что такое искусство?“ в массовой аудитории». Он считал, что «методологическая оснащенность подобной статьи должна быть особенно высока», а «игнорирование опыта предшественников сыграло с Владимиром Тендряковым злую шутку». Критик подчеркивал, что автор «не включает в свою статью и творческого опыта современников, отказывается вникать в суть споров об искусстве, которые „идут на протяжении многих веков“». (Михайлов Ал. Вооруженность критика, Новый мир, 1974, № 3.)
При издании очерка в Собрании сочинений Тендряков уточнил жанр этой работы, снабдив ее подзаголовком «Разговор с читателем». В анкете журнала «Литературное обозрение» (1977, № 7) на вопрос редакции о взаимоотношениях писателя и читателя Тендряков ответил: «…Я, так сказать, ежедневно, ежечасно купаюсь в читательской среде. И вот странно — ни один (увы, буквально ни один!) из моих знакомых читателей полностью не совпадает по своему духовному содержанию с тем читателем, какого я мысленно себе представляю… Навряд ли я создал себе читателя по своему образу и подобию, иначе как легко было бы для него писать — понимал бы меня с полунамека. Нет, выразить свое ему — для меня сложный и тяжкий труд, я не очень-то рассчитываю на его понятливость, хотя и живем мы одной жизнью, одними интересами».
Логическим развитием идей «Плоти» явилось участие Тендрякова в дискуссии, которую провел журнал «Вопросы философии». Темой дискуссии было «Взаимодействие науки и искусства в условиях современной научно-технической революции». Полемизируя с видным советским физиком-теоретиком Е. А. Фейнбергом, выступившим со статьей «Искусство и познание» (Вопросы философии, 1976, № 7), отстаивая свою мысль, Тендряков писал: «Как в науке, так и в искусстве любой процесс познания начинается с чисто интуитивных суждений. Не что иное, как интуитивные прозрения заставили Эрстеда проявить повышенный интерес к стрелке компаса, оказавшегося рядом с проводом, находящимся под током, — открытие, давшее начало теории электромагнитного поля. Художник в многообразной жизни улавливает нечто такое, в чем он интуитивно чувствует какие-то скрытые, ему самому до конца неясные возможности, которые затем (после критического осмысления, дискусивного по существу) ложатся в основу будущего произведения. Так, например, случайно оброненная кем-то фраза о мужике, поехавшем искать счастливую страну, стала толчком для А. Твардовского к созданию его знаменитой „Страны Муравии“.
Художник не столь рационалистически строг, как ученый, можно предположить, что он чаще ученого доверяется интуиции, но это обстоятельство-де не дает права делать вывод, что в искусстве пользуются преимущественно интуитивным методом. И в нем, как и в науке, совокупность переплетающихся логических умозаключений и интуитивных суждений образует результативный метод познания… Наука имеет дело только с одним реально существующим миром, стремится создать его единую целостную картину. Искусство имеет дело с миром, пропущенным через субъект. Потому оно, искусство, создает множественные картины мира (сколь множественно число воспринимающих субъектов). И эти картины, никогда не соответствующие полностью одна другой, тем не менее способны по-своему верно отражать действительность». (Тендряков В. Искусство и самопознание. — Вопросы философии, 1977, № 8.)
Очерк «Плоть искусства» был особенно дорог писателю. Он не раз говорил, что работа эта, не понятая критикой, является его любимым детищем. «К этой „сироте“, признаюсь, больше всего лежит сердце». (Интервью для журнала «Советская литература» на нем. яз., 1983, № 11.)
«Плоть» дала начало целой серии статей по вопросам искусства, нравственности и социологии — «Культура и доверие», «Искусство и самопознание», «1001-й раз о нравственности», «Введение в социальную нравственность», «Муки творчества» (Архив писателя).
Очерк «Плоть искусства» издавался в ГДР.
Божеское и человеческое Льва Толстого. — Впервые в журн. «Звезда», 1978, № 8.
Статья была написана к 150-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.
«Удивляюсь гению Достоевского, но больше всего люблю Толстого», — признавался Тендряков (Стенограмма выступления в Московском пед. институте им. В. И. Ленина, 1982).
Беседы и споры с друзьями, обширная переписка с советскими и зарубежными корреспондентами, интервью, ответы на вопросы журнальных анкет подтверждают, что Толстой оставался спутником Тендрякова по всей его жизни. В школе уже «успел наглотаться и Толстого, но навряд ли переварить…».
Л. Толстой был обычным вечерним чтением в кругу семьи. Своей дочери-школьнице В. Тендряков прочел вслух «Войну и мир», «Анну Каренину», «Хаджи Мурата».
«Не знаю, кто из нас с большим нетерпением ждал вечерних чтений „Войны и мира“, — вспоминает М. В. Тендрякова. — Толстой полностью увлекал папу за собой в XIX век, в мир людей, которые жили тогда, а может быть, никогда и не жили, заставляя его подчиниться ритму их времени, превращая писателя XX века, напряженного, взвинченного века стремительных перемен, в благодарного читателя. Благодарного за неторопливое описание повседневности, тех самых „мелочей“, из которых и состоит человеческая жизнь. За больную совесть писателя и его героев, за светлую веру в человека и его будущее. Некоторые куски он перечитывал по поскольку раз, изумляясь гениальной простоте, доказывая мне, как это прекрасно, как будто я сопротивлялась. При этом папа требовал, чтобы я сидела поближе, чтобы были видны глаза. Философские же отступления превращались в диалог и спор с Толстым. Тогда мне начинало казаться, что я случайный свидетель давно начатого разговора, или просто повод для его размышления вслух…»
Как и большинство его публицистических работ, статья «Божеское и человеческое Льва Толстого» не исследование творчества Льва Николаевича. Опираясь на Толстого, он высказывал свое, заветное, над чем много и глубоко думал.
Как бы продолжая свой мысленный разговор с Толстым, в статье «1001-й раз о нравственности» В. Тендряков пишет: «Ни наука, ни философия в нравственности не преуспели, искусство же постоянно обращалось к тем нормативам, которые проповедовала религия. И сейчас, когда затрагиваются вопросы нравственных отношений, голоса последователей христианства звучат все еще громче других. Вот уже больше столетия мир жадно слушает Льва Толстого и Федора Достоевского, страдает вслед за ними над духовными недугами, проникается страстным желанием излечиться от них…
Мотив неистовой убежденности — нравственное спасение только в религии, в заветах Христа! — пожалуй, ни у кого еще не звучал с такой силой, как у Толстого и Достоевского. Но, читая и перечитывая их, мы почему-то не испытываем больших надежд, напротив, не в состоянии отделаться от разочарования. Диагноз болезни назван, а способ излечения по-прежнему невнятен. Неистовая убежденность сторонников религиозной нравственности вызывает у нас лишь тревожное бессилие». (Тендряков В. 1001-й раз о нравственности, архив писателя.)
В статье «Нравственность и религия», которую автор не увидел опубликованной при жизни, мы находим подтверждение этой мысли: «Хотел того Толстой или нет, но в нравственном плане он выступает как противник религии… Свой знаменитый роман „Анна Каренина“ он открывает эпиграфом в виде суровой религиозно-назидательной сентенции: „Мне отмщение и Аз воздам“. То есть Толстой как бы поставил своей задачей обличить Анну Каренину, с точки зрения ортодоксальной морали безнравственную женщину, нарушившую заповедь против прелюбодеяния. Но Толстой не был бы великим художником, если б но сокрушил умозрительного моралиста Толстого. Всем ходом действия романа, незаурядностью характера своей героини Толстой-художник оправдывает Анну, вызывает сострадание к ней. Устрашающее: „…и Аз воздам!“ Нет, читатель чувствует не страх перед назидательной карой всевышнего, а неприязнь к старым, затхлым отношениям, к той ханжеской нравственности, которая опирается на обветшалые, весьма примитивные библейские понятия. Толстой верил в эти понятия, но показывал весьма сложные человеческие отношения, которые никак не могли быть объяснены ходячими трафаретами, напротив, противоречили им, опровергали их. Толстой верил в бога, но пустить его на страницы романа он тоже не мог, пришлось бы иначе показывать, что герои действуют не сами по себе, а под влиянием некоей высшей силы, а это противоречило бы правде жизни. И мораль от господа бога, возникнув в коротеньком эпиграфе, не только исчезает за ненадобностью, а сокрушается автором». (Тендряков В. Нравственность и религия. — Наука и религия, 1987, № 4.)