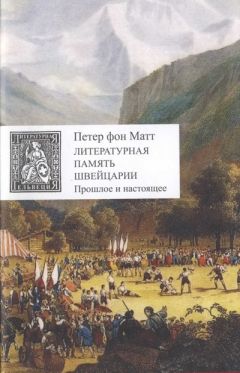Гёте упоминает не черта с его мостом, хотя описывается именно место, связанное с этим преданием[48], а непостижимых первозданных драконов, пугающий доисторический мир, через который должен пройти каждый, кто хочет попасть в радостную и светлую Италию. Однако образ мула связывает это архаическое виде́ние с конкретной практикой тогдашних переходов. Гёте потом многократно описывал навьюченных мулов, которые ежедневно длинными вереницами тянулись через перевал и к чьим шеям подвешивали колокольчики, чтобы они не потерялись во время частых туманов. Первая дорога через Готард для экипажей была открыта только в 1830 году. Гёте ее не видел.
В отличие от настоящих гор с их, можно сказать, вневременным существованием, Готард с самого начала предъявлял людям технические требования. Его история, вплоть до сегодняшнего дня, остается историей инженерного искусства. Уже как место действия предания о черте Готард представлял собой, помимо прочего, и событие прогресса: черт, построивший первый мост, был технически одаренным существом, тогда как местные крестьяне, которые его обманули, подсунув козленка вместо обещанной человеческой души, не имели иных талантов, кроме обычной крестьянской хитрости.
Забавно, что уже Галлер столкнулся с проблемой: какими средствами можно описать Готард. Большое символическое значение перевала побуждало хоть как-то его упомянуть. Галлер, не долго думая, превратил Готард в высокую гору и начал строфу словами: «Где Готарда чело на облака взирает…» Такое «чело» даже при всем желании на перевале не увидишь.
Правда, в принципе можно было бы изобразить те две вершины, что ближе всего к дороге — Пиццо Чентрале на востоке и Пиццо Лучендро на западе, — как группу гор-близнецов, с проходом посередине, и таким образом все-таки получить пластический образ. Но никто никогда не предпринимал таких попыток, хотя обе горы (каждая, как-никак, высотой под три тысячи метров) имеют выразительные силуэты. Загвоздка в том, что их имена не проникли в коллективное сознание и даже сегодня известны только альпинистам и солдатам; в XVIII же веке они, по всей видимости, еще оставались безымянными. Зато в том же XVIII веке — например, в работах Шейхцера — предпринимались попытки повысить символическую значимость Готарда, объявив его местом происхождения всех великих европейских рек. Рона и Рейн, Тичино и Ройс, Аре и Инн (а значит, и Дунай) будто бы вытекают из его каменной груди, а следовательно, он — если провести аналогию с человеческим кровообращением — может рассматриваться как сердце не только Швейцарии, но и всего европейского континента. К сожалению, в плане географии эта красивая теория не выдерживает критики. Галлер, который пытался разрабатывать мифологическую идею о происхождении европейских рек из одного центра, никогда не упоминал в этой связи Готард, считая таким центром сперва перевал Фурка, а позже, как ни удивительно, — Шрекхорн. Шестая от конца строфа поэмы «Альпы» первоначально начиналась так:
От Фурки хладного чела, откуда в оба моря
Европы водный дар могучие разносят реки,
Берет начало светлый Аре…
В примечании Галлер уточняет, что, упоминая «моря», он имеет в виду следующее: «Родан впадает в Средиземное море, Ройс и Аре — в Рейн и, вместе с ним, в Северное море». Родан — старинное название Роны; что же касается Фурки, то против высказывания о распределении стекающих с этого перевала вод «в оба моря» возразить нечего. Вот только Аре берет начало не отсюда, хотя, по большому счету, и не так уж далеко от этого места. Но Галлер, житель Берна, не мог смириться с такой ошибкой: ведь Аре течет через его родной город, гимном которому и должна была стать эта строфа. Поэтому — стараниями Галлера — в последующих изданиях поэмы Аре брал начало уже со Шрекхорна, что в географическом смысле не совсем ошибочно, хотя с неменьшими основаниями можно было бы назвать местом его истока Лаутераархорн, Финстераархорн или Веттерхорн[49]; а вот к происхождению Роны Шрекхорн, увы, никакого отношения не имеет, и значит — к Средиземному морю тоже. Поэтому в окончательной редакции «Альп» высказывание получилось фактически ошибочным, хотя звучит оно очень торжественно: «Со Шрекхорна холодного чела, откуда в оба моря / Европы водный дар могучие распределяют реки, / Берет начало светлый Аре…».
Эту мелочную (как можно подумать) придирку к грандиозной поэме я в данном случае нахожу вполне уместной, поскольку она позволяет читателю увидеть, с какими трудностями столкнулся поэт, пытаясь во что бы то ни стало обосновать характерную для швейцарского патриота мысль о происхождении всех европейских рек от одной-единственной горы в центре Швейцарии. Эмпирическая действительность в очередной раз хладнокровно подставила подножку патриотической фантазии. Поэтому сегодня швейцарцы сочли за лучшее выбрать себе в качестве национального символа произведение инженерного и минёрного искусства — прославленный Готардский туннель.
Жертвы прогресса остаются болью Швейцарии
Поскольку прогресс уже по своей сути находится в оппозиции к истокам, моменты гармонии между тем и другим случаются крайне редко и искренне переживаются людьми как праздник. С такими радостными моментами всегда резко контрастируют жертвы прогресса. Неудивительно, что попытка Келлера рассказать историю убитого дерева нашла продолжателей. Роман Майнрада Инглина «Урванг» (1954) — панорамное изображение населенной крестьянами горной долины, которую превращают в водохранилище, — уже первым слогом заглавия намекает на то, что речь пойдет о происхождении, об истоках[50]. Однако сюжет романа связан с постепенным уничтожением некоего окруженного природой культурного ландшафта. С болью наблюдая за его гибелью, главный персонаж — майор, который определенно наделен чертами самого автора, — пытается как-то примириться с прогрессом, но в конце концов ему остается одно: печально покориться судьбе. Здесь жертвой становится целая долина. Инглин попытался — средствами литературы — воспротивиться стремлению электроиндустрии (которое в пятидесятые годы стало каким-то безумием) превращать в водохранилища все высокогорные долины, хоть сколько-нибудь пригодные для этого. Инглин был тогда единственным авторитетным писателем Швейцарии, который мыслил экологически, в сегодняшнем понимании этого слова, и воплощал свои экологические идеи в прозе, не поступаясь художественной выразительностью. «Урванг» это книга, с горечью критикующая прогресс, но поэтически сильная: в ней можно найти пейзажи предгорий Альп, настолько блестяще написанные, что ничего подобного вы наверняка не читали.
Уничтожение большого, растущего в стороне от других деревьев белого клена становится символом изничтожения природы, которое здесь происходит, а судьба долины, в свою очередь, — символом того, что вообще в Швейцарии происходило с природой начиная с пятидесятых годов, во все более ужесточающихся формах. Достижения Инглина — и в первую очередь значение именно романа «Урванг» для осмысления этого «ускорившегося прогресса» — до сегодняшнего дня еще не стали в достаточной мере частью общественного культурного сознания. Инглин с большим вниманием принимает к сведению аргументы «технарей»: он не ведет полемику, прибегая к плакатным приемам; почти как в зале суда он противопоставляет две позиции: желание предотвратить уничтожение роскошного дерева — и аргументы в пользу такого уничтожения, выдвигаемые инженерами. Для Инглина, либерального демократа, выслушать противоположную сторону — гражданский долг. Может быть, позднейшие зеленые именно из-за столь серьезного взвешивания всех «за» и «против» никогда не ссылались на этого писателя, хотя он был одним из их важнейших предшественников. В романе инженеры приводят один технический аргумент за другим, каждый аргумент логично увязан с предыдущим, а в конечном счете — и со всем проектом строительства водохранилища. Что может добавить к этому майор? Вот что:
«Да, вы сказочно умелые люди, — ответил майор с горечью. — Проложить в труднодоступной местности дорогу, в кратчайшие сроки проломить гору, окружить стеной целую долину — это все вы можете, а вот обойти стороной одно красивое старое дерево — такое вам не по силам»[51].
Конец белого клена напоминает рассказ о Вольфхартсгееренском дубе, но только здесь голос рассказчика как бы приглушен скептическим реализмом Инглина. Инглин изображает убийство дерева не как реальное зрелище, а как представление, сформировавшееся в голове майора:
Он заранее видел, как будет приведен в исполнение смертный приговор, как дровосеки перерубят топорами уже освобожденные от земли сильные корни и попытаются повалить дерево, налегая на закрепленные в середине кроны канаты, как дерево будет со страшным треском сопротивляться, чтобы в конце концов опрокинуться, — и у него судорожно сжималось сердце[52].