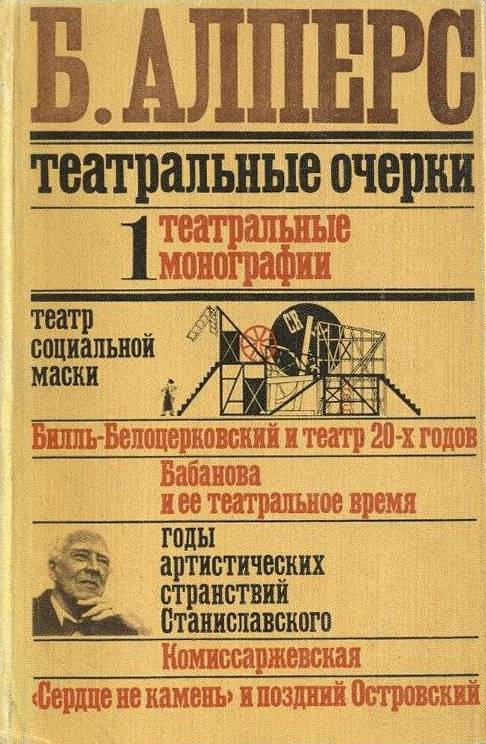характерным для театра Мейерхольда. Но с особой остротой и внешним блеском оно проявилось на его спектаклях первого периода. Оно осветило насмешливой, иронической улыбкой ту галерею агитационно-сатирических плакатов, которую создал мейерхольдовский театр в то время. Оно позволило театру с такой ошеломляющей и веселой издевкой обрушиться на персонажей тогда еще близкого прошлого. В своих играх-импровизациях театр не всегда смеялся. Он умел быть серьезным и торжественным, когда рассказывал в «Земле дыбом» о трагических и величественных событиях революции. На его сцене бунтовала и кипела толпа солдат, поднимающих революционное восстание, звучали митинговые речи, на его сцене проходили победы революции и ее поражения, и гибель вождя революционной массы и его последний путь в красном гробу на автомобиле.
Театр умел быть и трогательным и лиричным в знаменитой любовной сцене «Леса», в эпизоде свидания Аксюши и Петра под меланхолично-задорную музыку «Кирпичиков» на гармошке.
Но и лирику и героический пафос театр разыгрывал в непрестанных легких и стремительных движениях людей, вещей и предметов, на тех уверенных движениях, которые обещали зрителю близкую победу, близкую радость, которые всегда создавали бодрый тон его спектаклей.
Лирический вздох и трагическая поза в то время были несвойственны театру Мейерхольда. Он перечеканивал их на ироническую улыбку и на короткое мужественное слово в память погибших героев революции.
Таким бодрым и ясным останется навсегда в памяти современников этот первый театр, радостным смехом приветствовавший революцию.
Все оказывалось чрезвычайно простым и легким в этом театре, потерявшем кулисы, занавес, декорации и превратившемся в простую площадку для подвижной, незатейливой игры нескольких актеров.
Еще немного, и эта игра уйдет из театрального помещения и будет возникать всюду — на площадях, в часы отдыха в заводском и фабричном помещениях, в клубном зале, в домах — среди непрофессионалов, рабочих и служащих, для развлечения выдумывающих сценарий спектакля и тут же представляющих его в лицах.
Именно таким в ту пору вставало перед театром Мейерхольда близкое будущее театрального искусства. Оно сольется с жизнью, растворится в быту, нехитрое, доступное каждому веселое ремесло представления. Для такого будущего театр Мейерхольда и работал, но его убеждению {30}.
В своих постановках, от «Великодушного рогоносца» вплоть до «Д. Е.», театр не был связан с существующей театральной сценой. В любой момент он мог уйти из нее и расставить свои постройки и приборы на любой площадке — на улице, в поле, в обыкновенной комнате.
Так иногда и поступал театр Мейерхольда. «Земля дыбом» давалась на открытом воздухе на Ленинских горах в Москве, а «Смерть Тарелкина» — тоже на открытом воздухе во время летних гастролей театра.
С легкой перемонтировкой деталей оформления могли быть вынесены из театрального помещения и «Великодушный рогоносец» и «Лес».
Самый метод вещественного оформления спектаклей, применяемый театром, был методом внетеатральным, что подчеркивалось и его названием. Конструктивизм входил на сцену театра как самостоятельная сила с сознательной целью разрушить эту сцену, ускорить гибель театра как искусства. Это скупое инженерное искусство казалось очень простым по сравнению с живописным великолепием обычных театральных декораций. В конце концов оно требовало стандартного умения строить деревянные клетки, разновысотные площадки, фанерные стены, гимнастические приборы и станки, и, по существу, было доступно любому квалифицированному театральному плотнику. Конструктивизм отказывался от эстетического принципа при композиции своих построек и аппаратов и заменял его принципом производственной целесообразности. Удобная, отвечающая своему действенному назначению вещь, лишенная всякого украшения, вытесняла изящный, в сущности, бесполезный, мертвый декоративный фон.
Конструкция к «Великодушному рогоносцу» и была такой удобной и полезной вещью, ограничившей площадь действия актера и определявшей характер его движений. Это был аппарат или прибор для работы актера, как любил тогда декларировать Мейерхольд, щеголяя непривычной для театра производственно-технической терминологией. Такую же роль, но с меньшим успехом играла и мебель в «Смерти Тарелкина». Неудобной и поэтому мертвой вещью, не включавшейся в действие спектакля, была модель козлового крана в «Земле дыбом».
Критерий полезности вносил предельную ясность в оформление спектакля. Эстетический произвол художника заменялся отчетливыми и жесткими производственными требованиями.
По тому же признаку действенной целесообразности вводились в спектакль и отдельные мелкие вещи, как мы видели, входившие в игру актера.
Такой же ясностью и простотой было отмечено и «техническое оборудование» актера театра Мейерхольда. Громоздкая и темная теория психологических переживаний оказалась замененной немудреной теорией кульбита или сальто, несложной системой физического воспитания нового общественного человека.
Театр дал этой системе имя биомеханической, подчеркивая ее механический характер.
Театр не связывал себя с профессиональным актером. Он брал просто физически развитого человека, умеющего ритмически двигаться и носить свое тело в воздухе, управлять им для отчетливой физической работы по определенным заданиям. Движения этого актера были целесообразны и наиболее приспособлены для данного задания. Они должны были служить образцом для всякого работающего человека нового общества. В принципе это был наиболее оборудованный и тренированный физически человек, связанный со сценой только временно и случайно. Завтра он перешагнет линию рампы и применит свое универсальное искусство целесообразных движений к любой производственно-полезной деятельности: театр Мейерхольда утверждал себя как фабрику физически развитых универсальных людей новой социальной эпохи.
Биомеханической системой игры театр чрезвычайно упростил и ограничил задачу актера, приблизил его технику к простой физкультуре. Между актером-творцом и простым смертным исчезла принципиальная разница, осталась только разница в степени физической тренировки.
Театральная сцена оказалась открытой для всякого добросовестно усвоившего технику среднего акробата или гимнаста, и в то же время в искусство актера вносилось начало технической грамотности, четкого, имеющего свои границы ремесла. Это обстоятельство сыграло большую роль в упорядочении и в правильном использовании той волны любительства, которая в первые годы революции охватила рабочие, преимущественно молодежные, круги.
И дальше — разнообразие драматических жанров, целые системы литературных традиций, сложные законы композиции драмы отступили на задний план перед универсальным типом игрового сценария, составленного из пестрых, разноцветных кусков и оказавшегося на сцене театра Мейерхольда одинаково присущим как современным драматургам, так и любым классикам, вроде Островского или Сухово-Кобылина.
От драматурга не требовалось даже умения изложить сюжет пьесы. Он терялся среди коротких отрывочных картин, в которых текст и драматические ситуации заново перемонтировались на сцене вводными пантомимическими сценами. Даже наличие отчетливой темы не было обязательно для драматурга.
Импровизационные представления театра, за исключением «Д. Е.», не имели точно определенной темы. Они состояли из серии отдельных эпизодов, ряда агитационных плакатов, портретов, связанных между собой капризной логикой игры, развертывающейся со стремительностью стальной спирали.
Самая агитационная установка спектакля создавалась театром чрезвычайно просто и даже элементарно; зачастую она механически пристегивалась к действию. Излюбленным приемом театра в этом отношении был