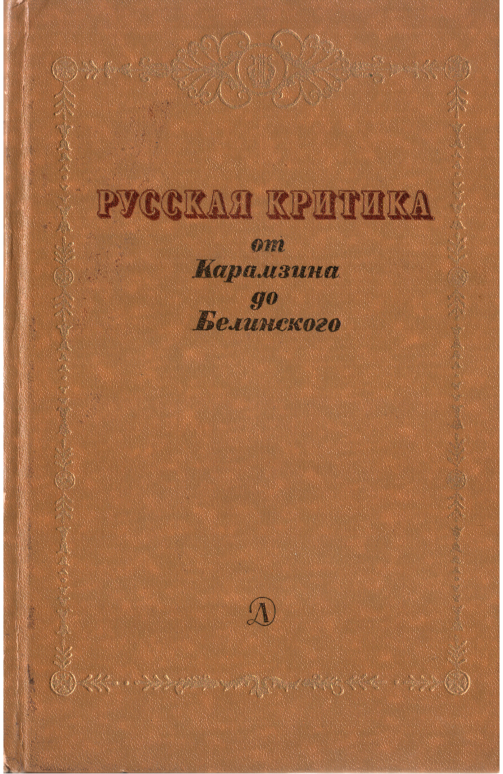В особенности же — туман: туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя». Кюхельбекер требовал от поэзии гражданственности и народности.
О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие
Сила, свобода, вдохновение — необходимые три условия всякой поэзии. Лирическая поэзия вообще не иное что, как необыкновенное, то есть сильное, свободное, вдохновенное изложение чувств самого писателя. Из сего следует, что она тем превосходнее, чем более возвышается над событиями ежедневными, над низким языком черни, не знающей вдохновения. Всем требованиям, которые предполагает сие определение, вполне удовлетворяет одна ода, а посему без сомнения занимает первое место в лирической поэзии, или, лучше сказать, одна совершенно заслуживает название поэзии лирической. Прочие же роды стихотворческого изложения собственных чувств — или подчиняют оные повествованию, как то гимн, а еще более баллада, и, следовательно, переходят в поэзию эпическую; или же ничтожностию самого предмета налагают на гений оковы, гасят огонь его вдохновения. В последнем случае их отличает от прозы одно только стихосложение, ибо прелестью и благозвучием — достоинствами, которыми они по необходимости ограничиваются,— наравне с ними может обладать и красноречие. Ода, увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, воспаряя к престолу неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя. Сверх того, в оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в супостатов [13], блажит праведника, клянет изверга.
В элегии — новейшей и древней — стихотворец говорит об самом себе, о своих скорбях и наслаждениях. Элегия почти никогда не окрыляется, не ликует: она должна быть тиха, плавна, обдуманна; должна, говорю, ибо кто слишком восторженно радуется собственному счастию — смешон; печаль же неистовая не есть поэзия, а бешенство. Удел элегии — умеренность, посредственность...
Послание у нас — или та же элегия, только в самом невыгодном для ней облачении, или сатирическая замашка, каковы сатиры остряков..., или просто письмо в стихах.
Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчастиях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, что — слава богу! — здоровы и страх как жалеют, что так давно не видались! Уже легче, если по крайней мере ретивый писец вместо того, чтобы начать:
Милостивый государь NN.,
воскликнет:
...чувствительный певец, Тебе (и мне) определен бессмертия венец!..
Теперь спрашивается: выиграли ли мы, променяв оду на элегию и послание?
Жуковский первый у нас стал подражать новейшим немцам [14], преимущественно Шиллеру*. Современно ему, Батюшков взял себе в образец двух пигмеев французской словесности — Парни* и Мильвуа*. Жуковский и Батюшков на время стали корифеями наших стихотворцев и особенно той школы, которую ныне выдают нам за романтическую.
Но что такое поэзия романтическая?
Она родилась в Провансе и воспитала Данта*, который дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго рабского подражания римлянам, которые сами были единственно подражателями греков, и решился бороться с ними. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную, народную стали называть романтическою...
Изучением природы, силою, избытком и разнообразием чувств, картин, языка и мыслей, народностию своих творений великие поэты Греции, Востока и Британии неизгладимо врезали имена свои на скрижалях бессмертия. Ужели смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути, по которому идем теперь? Переводчиков никто, кроме наших дюжинных переводчиков, не переводит. Подражатель не знает вдохновения: он говорит не из глубины собственной души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и ощущения. Сила? — Где найдем ее в большей части своих мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведений? У нас все мечта и призрак, все мнится, и кажется, и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то. Богатство и разнообразие? — Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости: до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях. Если бы сия грусть не была просто риторическою фигурою, иной, судя по нашим Чайльд-Гарольдам [15], едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что у нас на Руси поэты уже рождаются стариками. Картины везде одни и те же: луна, которая — разумеется — уныла и бледна; скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения Труда, Неги, Покоя, Веселия, Печали, Лени писателя и Скуки читателя; в особенности же — туман: туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя.
Из слова же русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык...
О мыслях и говорить нечего. Печатью народности ознаменованы какие-нибудь 80 стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина*, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина.
Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества романтической поэзии перед так называемою классическою позднейших европейцев. Родоначальники сей мнимой классической поэзии более римляне, нежели греки. Она изобилует стихотворцами — не поэтами, которые в словесности то же, что бельцы [16] в мире физическом. Во Франции сие вялое племя долго господствовало: лучшие, истинные поэты сей земли, например Расин*, Корнель*, Мольер*, несмотря на свое внутреннее омерзение, должны были угождать им, подчинять себя их условным правилам, одеваться в их тяжелые кафтаны, носить их огромные парики и нередко жертвовать безобразным идолам, которых они называли вкусом, Аристотелем*, природою, поклоняясь под сими именами одному жеманству, приличию, посредственности... Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности, но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро большим