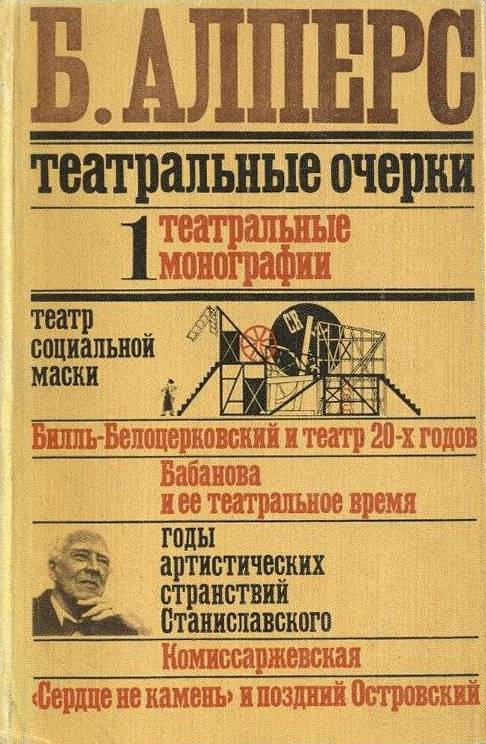«Мандате» поднялись вверх плотные фанерные стены, однако тоже еще раздвигавшиеся и в какой-то доле игравшие роль динамических приборов.
Но уже в «Ревизоре» создается постоянная устойчивая декоративная стена сценической площадки. В «Горе уму» она охватывает всю ширину и глубину сцены. А в «Командарме 2» сцена зашивается фанерой со всех сторон и доверху.
Актеры уже появляются на сцену из специально сделанных дверей, ворот и т. д. Театр уже прячет от взгляда зрителя свою «кухню». Он хочет быть захватывающим по-серьезному, увлекательным вне своей «скандальной» разоблачительной миссии.
Этот поворот связан с обращением театра Мейерхольда к специфической тематике.
Иные звуки, иные оттенки проникают в его сложный сценический оркестр. Этот театр становится театром одной темы. Он воспринимает ее как свою жизненную задачу, как свой творческий подвиг и под разными обличьями, начиная с «Бубуса» и с «Д. Е.», ставит ее вновь и вновь со все увеличивающейся страстностью на своей сцене. Эта тема звучала в «Д. Е.», как зловещий звук тубы в оркестре; именно в этом спектакле она была осознана Мейерхольдом и его театром как своя центральная тема. В «Бубусе» же были просмотрены и отобраны художественные средства и приемы для ее сценического выражения.
Здесь повторилась та же схема, что и в предыдущем периоде мейерхольдовского театра со «Смертью Тарелкина», только с иной целью. Перед новым этапом Мейерхольд обращается к своему прошлому. Он пристально изучает пригодность того художественного оружия, которое когда-то создавал лабораторным путем в иных условиях и для иных целей. Он медленно развертывал в обратном хронологическом порядке катушку своего творчества, рассматривая и отбирая отдельные кадры, для того чтобы потом вмонтировать их в новое произведение.
В «Бубусе» Мейерхольд воспроизводит в увеличенных масштабах свои петербургские студийные постановки 1915 – 1916 годов в белом колонном зале на Бородинской. Конечно, теперь все это сделано с большим размахом и с большим внешним великолепием {32}.
Четыре бамбуковые палки, с которыми студийцы, одетые в серо-голубую прозодежду, разыгрывали пантомимы на медленных торжественных движениях, — эти палки выросли в «Бубусе» в целый бамбуковый лес, мерно колыхавшийся и постукивавший при движении актеров.
Простой ковер-мат, расстилавшийся по полу студии перед началом пантомимы, вырос в «Бубусе» в сделанный по заказу огромный овальный ковер, застилавший всю площадку действия спектакля.
Рояль, за которым в этой же студии консерваторский ученик разыгрывал для пантомим Мефисто-вальс Листа, вальсы Шопена и другие отрывки из произведений этих композиторов, оказался перенесенным в «Бубус». И тот же музыкальный репертуар иллюстрировал сложную пантомимическую ткань спектакля. Только самый рояль был подан на специальной эстраде с позолоченной раковиной, а на пианисте вместо домашнего пиджака была надета эстрадная униформа — элегантный фрак и лакированные туфли.
Только тот, кто не видел работы Мейерхольда петербургского периода, только тот пройдет мимо этого разительного сходства «Бубуса» со студийными пантомимами 1915 – 1916 годов, периода работы Мейерхольда над «Маскарадом» {33}.
Весь спектакль распался на ряд самостоятельных пантомимических отрывков. Текст включался в действие только определенные моменты и использовался приблизительно в том же значении, что и непрестанное музыкальное сопровождение спектакля. Он давал формально смысловую тему для пантомимы и служил предлогом для опорных остановок и пауз в движении актера. Четкая интрига комедии Файко растворилась на сцене в сонных и медленных покачиваниях музыкального ритма и ритма пантомимических игр актеров. Распалась связь, сцеплявшая отдельные персонажи комедии смысловыми драматическими ситуациями. Каждый образ получил самостоятельную лирическую экспозицию, проходя через всю пьесу в особо подчеркнутом, присущем только ему одному, индивидуальном рисунке движений, имеющих характерный для каждого персонажа, всегда неизменный ритм и темп. Эта система движений создавала помимо текста, а иногда и вопреки ему, особую музыкальную тему каждого образа.
Эту пантомимическую игру, так широко развернутую в «Бубусе», театр Мейерхольда пытался оправдать теорией так называемой предыгры. В брошюре, изданной театром к премьере «Бубуса», этой теории была отведена одна глава. В ней авторы в качестве примера приводили игру актера А. Ленского в роли Бенедикта («Много шума из ничего» Шекспира), описанную в «Русских ведомостях». Длительное описание мимической игры Ленского заканчивалось словами: «… и зрительная зала гремит рукоплесканиями, хотя артист еще не сказал ни одного слова и только теперь начинает свой монолог».
В этом «классическом» случае предыгра была необходимым переходом действующего лица из одного состояния в другое: она подготовляла зрителя к более отчетливому смысловому восприятию следующего за ней текста. В «Бубусе» пантомимическая игра актера как раз не удовлетворяла этим требованиям.
Она не только не раскрывала зрителю текста комедии, но скорее затемняла его, выстраивая в движениях, в мимике и в жестикуляциях второй, неуловимый, лирический смысл или, вернее, — звучание показываемого образа, смысл, лежащий вне рамок написанной в тексте роли. Эта предыгра вызывала не гром рукоплесканий, но недоумение зрительного зала. Она лежала вне уловимой смысловой логики Действия. Ее целью было чисто музыкальное ритмическое звучание образа. На сцене появились тени людей, танцующие молчаливый танец обреченных. Этот «танец» составлялся не из непрерывных движений, вытекающих одно из другого, но из коротких законченных ритмических фраз, разделенных длительными паузами. Эти паузы уходили на прислушивание действующих лиц. Так прислушивался, застывая в неподвижной позе, обратив напряженное лицо в зрительный зал, учитель Бубус. Так прислушивался генерал Берковец, прежде чем сделать тот или иной жест и движение. Так останавливался после элегантных взлетов барон Фейервари, словно проверяя, не внес ли он своими движениями каких-либо изменений в окружающую обстановку. И Ван Кампердафф, и Теа, и остальные персонажи этой «комедии на музыке» — каждый из них исполнял свой «танец» на паузах, на этих моментах пристального вглядывания, ощупывания среды, констатации ее прочности и незыблемости.
Словно хрупкий стеклянный мир выстроился на сцене, отгороженный полукругом из бамбуковых тростей от окружающей стихии. Эта стихия и давала себя знать время от времени шумными взрывами за сценой, а в финале — вторжением революции, раскидывающей в стороны бамбуковые стены.
Темой этого спектакля и была тема гибели, неотвратимой катастрофы, нависающей над изящным и элегантным стеклянным миром. Это она заставляла персонажей спектакля останавливаться и напряженно вслушиваться в музыкальную тревожную тишину. И пантомимический танец, который протанцовывал каждый из них, был своего рода танцем предсмертной агонии, развернутой на протяжении всего спектакля.
Интересно, что все сцены в «Д. Е.», посвященные изображению гибнущей Европы, были построены тоже пантомимически, на таком же медленном и торжественном «танце». Берлинское ночное кафе, разрушенный Версаль, ужин лордов, сцена на пароходе и ряд других эпизодов, длившихся иногда на сцене по пятнадцать-двадцать минут, имели текста всего на десяток коротких малозначащих фраз.
Но в «Д. Е.» пантомима еще была сюжетной, кроме того, смысл ее раскрывался световыми надписями, плакатами. В «Бубусе» же