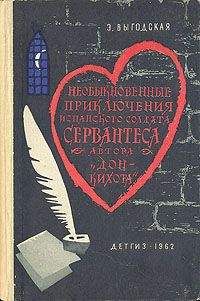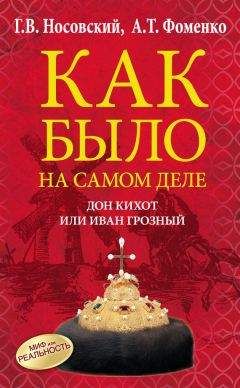Я полагаю, что за многие годы значение «Дон Кихота» усвистало в ветра Просвещения и ярко проплыло под фальшивыми флагами, которые мы охотно вздернули на флагшток. Это–то и приковало набоковский взгляд. Он хотел, чтобы книга оставалась сама по себе, чтобы она была сказкой, была вымышленной постройкой, не имеющей отношения к мифу «реальная жизнь». И тем не менее это именно та книга, что играет в игры с «реальной жизнью». В своем роде она представляет собой нечто вроде трактата о том, как значения заползают в вещи и жизни. Это книга об очаровании, о неуместности очарования в неочарованном мире и о вздорности очарования в целом. Несмотря на это, она очаровывает. При нашем содействии вкупе с неверным прочтением книга превратилась в то, что сама и высмеивала.
Набоков, чуткий знаток американской души, знал, что шестьсот гарвардцев и клиффовцев в его аудитории верят в существование рыцарей так же, как верили в добрый старый Запад с его странствующими ковбоями и в готическую архитектуру Мемориального холла. Но он не потратил ни единой секунды на то, чтобы вывести их из заблуждения; фактически, он оптимистически поведал им, что они не услышат ничего о Сервантесе, его эпохе, или его отсутствующей левой руке (утерянной у Лепанто) от него. Вместо этого, он настоял на том, чтоб они знали, что такое мельница, нарисовал им оную на доске и проинструктировал в названиях ее частей. Он пояснил, почему деревенский житель мог ошибиться, приняв их за гигантов — мельницы были новшеством в Испании семнадцатого века, в стране, которая узнавала последней о новинках в Европе.
Набоков очень остроумен и четок, говоря о Дульцинее Тобосской. Но он не рассеивает внимания своих студентов, обсуждая куртуазную любовь и ее диковинное метаморфичное прошлое и ее занятное выживание в наши дни. В то время как он читал свои тщательно выстроенные ревизионистские лекции, его помыслы явно были в Университетском музее за четыре минуты ходьбы, где он провел в качестве энтомолога восемь лет предыдущего десятилетия, изучая анатомию бабочек; другие же его устремления касались проекта о куртуазной любви, ее сумасшествии и слепых безрассудствах, — проекта, который, три года спустя, повзрослев, превратится в «Лолиту». Это уменьшительное от испанского имени, Долорес, будит в нас интерес. «Лолита» настолько последовательно продолжает набоковские темы («другой как я сам», «продуктивная власть иллюзий», «игра смысла и страсти»), что нельзя заключить, что она вдохновлена исключительно скрупулезным и пристальным чтением «Дон Кихота». Однако, меж двух работ можно перекинуть увлекательный мостик, а именно — отметить их «слаженную интуицию». Вот фея Лолита. Она зародилась как соблазнительное дитя в первом пришествии романтической любви на Запад: мальчик или девочка, душки Сафо или юнцы Анакреона, неважно. Платон рассуждал об этих безнадежных влюбленностях в нечто, называя их «любовью к совершенной красоте». Эта тема выродилась в непристойную и громоздкую в свинцовых римских руках, практически испарилась в раннее Средневековье, чтобы опять явиться в десятом веке как рыцарский роман. Ко времени Сервантеса куртуазная любовь насытила литературу (как насыщает ее и до сих пор), и в своей сатире на нее и ставшее сопровождать ее галантное рыцарство, Сервантес счел совершенно закономерным переплавить стойкий образец добродетели и красоты в деревенскую девку с большими ступнями и выступающей бородавкой.
«Дон Кихот» не имел никакого воздействия на здоровье рыцарского романа; он просто изобрел животворную сопутствующую традицию, которая жива до сих пор. Ричардсон становится Филдингом. Мы не расстались бы с совершенной красотой, если бы по соседству не жила Мадам Бовари. Скарлетт О'Хара и Молли Блум, обе — одухотворенные ирландки, в равной степени воздействуют на наше воображение. Уже в старинных романах, с ранних времен, благонравная красавица уравновешена волшебницей, Уна — Дуэссой. После «Дон Кихота» обманная красота стала интересовать нас сама по себе, как Ева, наконец предъявившая древние права искусительницы. К поздним семнадцатому и восемнадцатому векам она открыла лавочку и в литературе, и в жизни. Чтобы заполучить французского короля, заметил Мишле, нужно было прорваться сквозь стену женщин. Любовница стала чем–то вроде социального заведения; литература утверждала, что любовница требовательна и опасна, но более интересна и приятна, чем жена, ритуальная деталь рыцарского романа, у которого «Дон Кихот» предположительно валялся в ногах. Во времена перезрелого Декаданса любовница превратилась в перченую Лилит, первозданную особь женского пола в кружевной комбинашке, пахнущую обреченностью, проклятием и смертью. Лулу, назвал ее Бенджамин Франклин Ведекинд. Молли, сказал Джойс. Цирцея, изрек Паунд. Одетта, провозгласил Пруст. И из этого хора Набоков выдернул свою Лулу, Лолиту, в чьем подлинном имени, Долорес, многое было от Суинберна, смешав ее с кузинами Алисой (Набоков перевел «Алису в стране чудес» на русский язык), Розой Раскина и Аннабел Ли Эдгара По. Но ее бабушка была Дульцинеей Тобосской. И мы помним, что мемуары Гумберта Гумберта были выданы профессором за бред сумасшедшего.
Таким образом, эти лекции представляют несомненный интерес для любителей романов Набокова. Оба — Сервантес и Набоков — признают, что игра может выходить за околицу детства не только как естественная трансформация ее в сновидения дневного толка (находящиеся под неодобрительным подозрением психиатров) или в любой вид творчества, но и как игра сама по себе. Именно этим и занимается Дон Кихот: он играет в странствующего рыцаря. По отношению к Гумберту со стороны Лолиты — тоже игра (она удивляется, что взрослые интересуются сексом, который для нее является лишь видом игры), а психология Гумберта Гумберта (задуманная одурачить теории Фрейда), вероятно, указывает на то, что он просто застрял на стадии детской игры. В любом случае, когда критик рассматривает плутовской роман или отображенные в литературе иллюзии и самоопределение личности, он обнаруживает, что думает и о Сервантесе, и о Набокове.
Эти лекции по Сервантесу, как мне представляется, были триумфом Набокова, который поразился сам себе, выведя окончательное мнение о «Дон Кихоте». Он приблизился к задаче очень осознанно, несмотря на то, что считал эту классическую подделку неуместной, как пятое колесо, и подозревал, что она является чем–то вроде подлога. Именно ощущение обмана пробудило его интерес. Затем, я думаю, он увидел, что подлог заключался в репутации книги, распространившейся как эпидемия в среде критиков. Такие вещи Набоков любил разметать в хвост и гриву. Он стал выявлять в кишащей неразберихе симметрию. У него зарождается подозрение, что Сервантес ничего не знает об «отвратительной жестокости» книги. Ему начинает нравиться сухой юмор Дона, его завораживающий педантизм. Он соглашается с «любопытным феноменом», что Сервантес создал характер величественнее, чем сама книга, из которой он вышел — в искусство, в философию, в политический символизм, в фольклор грамотеев.
«Дон Кихот» и по–прежнему остается старой топорной книгой, наполненной специфической испанской жестокостью — беспощадной жестокостью, кусающей старика, который в старости играет, подобно ребенку. Она была написана в то время, когда над карликами и бесноватыми насмехались, когда честь и высокомерие были так высокомерны, как никогда, когда отступники от общепринятой мысли сжигались заживо на городских площадях под всеобщие рукоплескания, когда милосердие и доброта, казалось, совсем испарились. Действительно, первые читатели книги сердечно смеялись над ее жестокостью. Однако, в мире вскоре нашелся иной способ прочтения. Книга дала толчок современному роману по всей Европе. Филдинг, Смоллет, Гоголь, Достоевский, Доде, Флобер выцапапали из Испании эту историю и применили ее в своих собственных целях. Герой, вышедший из–под пера творца шутом, в ходе истории превратился в святого. И даже Набоков, всегда спорый в обнаружении и обличении жестокости в самой сердцевине сентиментальности, разрешает ему идти своим путем. «Мы больше над ним не смеемся», заключает он. «Его одеяния — жалость, знамя его — красота. Он символ благородства, сострадания, чистоты, галантности и альтруизма.»