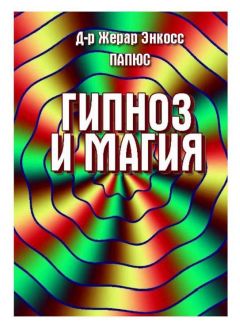Но довольно. Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что искусство решительно во всех его областях действительно переживает тяжелый кризис, что характернейшим симптомом «нового искусства» является самое радикальное отречение от традиций недавнего прошлого. Это отречение в сущности есть не что иное, как признание бесполезности многих художественных форм, признание их несоответствия новейшим нуждам практической жизни, – не что иное, как стремление к простоте, естественности и практичности, к наименьшей затрате сил и энергии. Даже такие факты, как злоупотребление дисгармонией красок и тонов, несомненно, вызваны стремлением возможно ближе стать к природе. Даже в основе таких уродливых и болезненных явлений, как декадентство, лежит разумное стремление, стремление отделаться от ненужных условностей и сблизить искусство с жизнью. Несомненно также, что декадентская живопись и поэзия, в своих реформационных попытках, зашла слишком далеко, ударилась в противоположные крайности и создала ряд художественных приемов и форм даже более условных, чем приемы и формы прежних школ. Но это другой вопрос: для нас в настоящую минуту важен только тот факт, что реформаторское начало во всех областях искусства является ответом на запросы каких-то действительно назревших существенных, жизненных потребностей.
Каковы же эти потребности? Где корень реформы? Что сделало бесполезной, лишней массу художественных форм, тонов, пластических образов и произвело такую невообразимую смуту в области эстетических понятий?
Вся эстетическая реформа находится в самой тесной зависимости от развития современного машинного производства и от развития современной железоделательной промышленности [4] .
Машинное производство, сыгравшее на пространстве последнего столетия такую видную историческую роль, в значительной степени определившее прогресс общественных отношений, явилось истинным законодателем эстетических норм. Прежде всего, оно сделало возможным техническую обработку самых разнообразных материалов в самых широких размерах, о каких раньше не могли иметь ни малейшего представления. Далее, оно выдвинуло на первый план обработку такого материала, как железо, и этот самый факт привел к естественному пересмотру и переоценке художественных форм. То из прежних художественных форм, что не могло быть передано посредством нового материала, не подходило под условия новой, машинной техники, все это естественно откладывалось прочь, как бесполезное, сдавалось в архив.
Новая техническая промышленная работа началась к концу прошлого столетия в Англии: вот почему именно Англия оказалась застрельщицей нового искусства, вот почему до сих пор это искусство привыкли называть английским. Во Франции машинное производство развилось значительно позднее: вот почему во Франции дольше держались традиции старого искусства, искусства, удовлетворявшего, главным образом, потребностям роскоши, вот почему в текущем столетии Франция считалась законодательницей моды на роскошь, вот почему до сих пор за произведениями французского искусства как чистого, так и прикладного до последнего времени установилась репутация шедевров изящества.
Германия пошла по стопам Англии. За последнее время и Россия решительно вступила на поприще машинного производства. И везде, где замечается переход к новому экономическому и техническому фазису, везде с искусством повторяется одна и та же история, везде старина ведет смертельный бой с новизной. И это очень характерное, очень поучительное состязание.
Особенно рельефно это состязание в области строительного искусства. Это прежде всего состязание между старой каменной, мраморной или деревянной колонной и железным столбом. Было время, когда железный столб употреблялся только при устройстве теплиц, навесов и некоторых хозяйственных построек. Если же им иногда пользовались при устройстве жилых, парадных комнат, то не иначе, как скрывши его убогую внешность под тяжелым покроем причудливых орнаментов, придавши ему вид благородной колонны. Теперь железные столбы везде пользуются правами полного гражданства: их перестали стыдиться, они красуются в своем натуральном виде. Теплицы превратились в роскошные хрустальные дворцы; наряду с новыми и хозяйственными постройками выдвигаются колоссальные железные вокзалы. Железные мосты висят над пропастями и реками, как нечто бестелесное, воздушное, чарующее. Из железа созидаются удивительные шедевры искусства. Эйфелева башня красуется среди Парижа, как одно из чудес XIX века.
Но, и помимо архитектуры, железо и сталь играют громадную роль во всей обстановке современного человека. Они создают новые типы экипажей, мебели, утвари, различных мелких предметов домашнего обихода. Если прибавить ко всему этому еще целый ряд технических изобретений текущего столетия, то мы поймем, почему искусство и наше эстетическое миросозерцание неминуемо должны были пережить кризис.
Все наши эстетические вкусы и взгляды не есть что-либо совершенно произвольное, вырабатывающееся независимо от условий той обстановки, которая окружает нас. Они – кровные дети этой обстановки. Любовь к известным художественным формам, к известным пластическим образам, к известным тонам и краскам диктуется нам теми предметами и явлениями, которые мы видим ежеминутно около себя, с которыми мы ежеминутно сталкиваемся и к которым мы принуждены привыкать. В настоящее время вся обстановка современного человека, во всех ее малейших частностях, радикально меняется. Новая техника навязывает ему новые предметы, а вместе с последними новые формы и новые образы. Современный человек подвергается эстетическому перевоспитанию, и притом процесс этого перевоспитания совершается с головокружительной быстротой. Так всегда бывает в моменты, подобные переживаемому ныне. Это – моменты, когда состязание между старыми формами искусства и новыми еще далеко не завершилось: это еще Sturm und Drang [5] нового искусства, его только его первый решительный дебют на исторической сцене, дебют, во время которого оно пролагает себе путь к верной победе в будущем. Победа еще вдали, но в предчувствии ее новые дебютанты уже заранее торжествуют. Образы нового искусства еще окончательно не оформились, тона и краски еще не прояснились, положительные пункты программы нового искусства еще не выяснились. Такие моменты очень опасны; такие моменты – суть по преимуществу моменты крайностей, преувеличений, необдуманных скачков, взаимного непонимания, зачастую самых диких выходок. В такие моменты очень легко потерять голову. И на этот раз Sturm und Drang нового искусства не обошелся без самых неприглядных, самых прискорбных инцидентов. В ближайшем фельетоне мы постараемся осветить некоторые из темных подвигов современных Sturm und Drang, рассказать повесть о том, как и в силу наличности каких общественных причин некоторые из проповедников нового искусства на самом деле потеряли голову.
А пока повторим, что новое направление в искусстве вызвано историческими настоятельными потребностями жизни и что в его истории решающая роль принадлежит новой промышленной технике.
Постараемся охарактеризовать психический и нравственный облик декадента.
Воспользуемся для этой цели последним произведением г. Бальмонта, его книгой «Горящие здания», книгой, в которой модный декадент дал полный простор полету мрачной фантазии, рельефнее, чем прежде, подчеркнул свое стремление к декадентству. Это очень странная книга, изобилующая непонятными, дикими, кричащими образами, метафорами, сравнениями, говорящая о явной погоне за внешним эффектом, свидетельствующая о том, в какой сильной степени г. Бальмонт зачастую позволяет себе увлекаться чисто книжными влияниями, довольствоваться передачей мотивов западно-европейской лирики. Но мы не будем здесь останавливаться на декадентских крайностях его поэзии и возьмем из его стихотворений только то, что так или иначе может характеризовать главнейшие элементы его психической жизни.
В основе всех его настроений, эмоций и моральных побуждений лежит сознание отсутствия жизненной энергии, сознание полнейшего психического и нравственного бессилия.
Г. Бальмонт причисляет себя к «утомленным грозой», к «душам утомленным». Он признается, что обладает «душой холодной, полной пустоты», что в его душе нет настоящей жизни и силы:
Полночь и свет знают свой час.
Полночь и свет радуют нас.
В сердце моем – призрачный свет
В сердце моем – полночи нет.
Ветер и гром знают свой путь.
К лону земли смеют прильнуть.
В сердце моем буря мертва.
В сердце моем гаснут слова.
Сознание своей утомленности, своего бессилия заставляет его воображать себя то путником, попавшим в страну «Неволи», плененным чащей фантастического, глухого леса, то узником «вечной тюрьмы», томящимся во власти непроглядного мрака. На весь мир он смотрит сквозь призму своего утомления и бессилия. Он видит печать этого утомления нечеловеческой толпе, он видит кругом себя «души бледные и бессильные». Все люди, в его глазах, томятся в «душном зное земного бытия». Об утомлении говорит ему природа. Его внимание останавливается на вечерних ландшафтах – закатных красках, погасающих лучах, туманных равнинах, необъятных лесах, «как будто неживых, навсегда утомленных», на облаках «поникших, скорбных, безответных, бледных». Даже классические боги древней мифологии, «царственные» боги и те томятся в «тяжелом плену, скорбят, находясь в оковах жизни подневольной закутанных миров». Только Верховное Существо знает истинное блаженство: оно ничем не утомлено [6] . «Гроза», сломившая г. Бальмонта, внушает ряд чувство полного недоверия к жизни. Поэт-декадент чувствует себя бессильным в «круговороте» современности, отказывается признать какую-либо определенную цель в своем существовании.