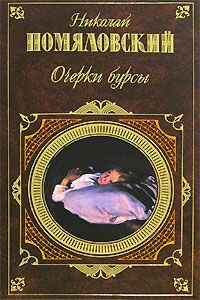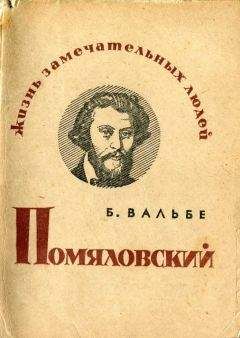Для того однако же, чтобы типы-понятия достигали полноты содержания и жизненности, необходимо одно условие: для этого требуется именно, чтоб сама мысль, которой они обязаны своим происхождением, родилась из непосредственного созерцания общества, из проникновения, так сказать, в глубь его психического настроения, из перехваченной тайны его существования. Не то мы видим у г. Помяловского. Процесс образования его типов следовал другому пути. Они прежде всего зародились в голове автора, как предположения, как возможности, которые, хотя прямо и не вытекают из жизни, но и не отрицаются положительно. Олицетворив эти предположения и возможности, он пустил их в свет, где они значительно отличаются от других существ и производят довольно странное впечатление. Публика следует за ними с каким-то странным любопытством, похожим на то, которое окружает на улице неизвестное лицо в чужом костюме и с признаками другой национальности, инородного и далекого происхождения. Такое лицо может даже возбудить участие и ласковый прием со стороны туземцев, благодаря тому, что вносит неизвестного рода новизну и разнообразие в обычное течение жизни, но представителем их настоящих симпатий и склонностей никогда не сделается. Можно даже показать исходную точку типов г. Помяловского еще ближе. Если не обманывает нас догадка, то в обоих типах своей повести автор намеревался изобразить собственные идеалы разумно-ясного существования с одной стороны, а с другой – гениально-беспутного пробования различных мотивов жизни, которое является как потребность неудовлетворительного призвания к деятельности. Но оба типа мало удались именно потому, что задуманы уединенно, самопроизвольно, отчего ни «порядочность» Молотова, ни «своевольство» его друга, не успели составить им ярких физиономий, не успели добыть им природы, так сказать, а еще менее вывести на их лица какое-либо отражение современной минуты, действительно переживаемой обществом. Все дело ограничилось тем, что они наделены некоторого рода развязностью и умеют скрывать очень ловко рутинные свои приемы и идеи под новыми оборотами, которые обманывают глаза у большинства читателей, но не способны отвести их у человека, несколько искушенного в распознавании выдуманных типов от взятых из среды общества. Если так долго остановились мы на повести г. Помяловского, то именно из желания воспрепятствовать накоплению подобных сочиненных образов, к чему фаланга молодых писателей, если не ошибаемся, оказывает видимую наклонность.
Два очерка из жизни бурсы того же автора, к которым теперь переходим, составляют относительно выполнения совершенную противоположность с повестью. Здесь уже нет слабых, невыдержанных типов; наоборот, все типы обоих очерков наделены таким ярким выражением, такой чудовищной энергией, что заставляют, так сказать, сторониться перед собой испуганную мысль читателя. Мы вполне убеждены, что ничего страшнее «Зимнего вечера в бурсе» и «Бурсацких типов» г. Помяловского – русская литература еще не производила. Если никаких признаков ужаса в читающей нашей публике не оказалось после их появления, то мы объясняем это одним весьма известным обстоятельством: публика наша приходит в ужас и от безделиц, но только тогда, когда что-либо страшное, по ее мнению, сказано в первый раз. Затем уже, в какой бы пропорции ни росло обличение и разоблачение той или другой стороны жизни, тронутой однажды смелою рукой, она остается хладнокровной, разнясь в этом с другими читающими публиками, например, с английской, где рассказ, подобный «Бурсацким типам» г. Помяловского, произвел бы волнение во всем обществе, даром что сцена происшествия отнесена во втором несколько назад от нынешнего времени. Мы удовольствовались тем, что с отвращением и внутренним содроганием прочли эти кровавые страницы, где в нестерпимо мрачной и вместе чрезвычайно живой картине рисуется неистовство учителей-извергов, которым достойно отвечает невообразимое неистовство подчиненных, когда они предоставлены самим себе. Что касается до рассмотрения и выводов, на какие неизбежно наводят большинство читателей страшные рассказы г. Помяловского, автор устранил эту работу, вероятно, не желая длить, по своей охоте, мучительные часы, испытанные за книгой, а между тем выводы показали бы, может быть, что лоском ужаса и эффектом нагроможденных злодеяний автор своих воспоминаний или своих представлений бурсацкой жизни старался прикрыть собственное неполное знание или понимание изображаемого им предмета.
Мы назвали г. Помяловского автором своих воспоминаний или своих представлений бурсацкой жизни, потому что рассказы его принадлежат к тому смешанному роду произведений, которые могут быть приняты за правдивые записки очевидца, а вместе с тем, благодаря замашкам художнического освещения лиц и искусственного распределения частей, и за свободное создание писателя, превосходный образец такого рода произведений дан нам в «Записках из Мертвого дома» г. Ф.Достоевского, в этом романе, прикасающемся одной стороной к летописи, а другой – к вымыслу. Нам кажется, хотя мы можем и ошибаться, что «Мертвый дом» не остался без влияния на выбор предметов для рассказов у г. Помяловского. Самый род имеет важные неудобства: он более значителен, чем простой факт и менее достоверен, чем факт. Он не чистая истина, необходимая этнографу, статистику и администратору, да он и не свободное творчество, которым удовлетворяется фантазия читателя. Он в одно время правдив и обманчив для всех требований. Неудобства этого рода поправляются глубочайшей опытностью в деле художнического производства, как мы именно видим у г. Достоевского. «Мертвый дом» его представляет редкое сочетание голой истины, ослабленной литературной передачей ее, и артистического создания, ограничиваемого грубым фактом и беспощадной действительностью. Это не простое описание тюрьмы, это также и не воспроизведение тюрьмы свободной кистью, а скорее художнический и философский комментарий на все. Благодаря этому качеству мы видим, что светлый луч искусств и даже поэзия играет у г. Достоевского на стенах ужасного дома и пробивается внутрь его, оставляя его по-прежнему домом печального назначения, не изменяя его безобразной наружности и не разукрашивая фальшивым освещением. Что сделалось у него с домом, то сделалось и с людьми. Они остались злодеями, каждый по-своему, но глубокий психологический анализ уже объяснил и частию смягчил их преступления. Не то у г. Помяловского: преступления всякого рода у него снаружи, а пути, которыми шли люди к преступлениям, скрыты.
Мы не говорим, чтоб нужно было понять что-либо в учителях бурсы: они не заслуживают психологического разбора. Это люди отпетые. Каждый из них столько же имеет права на звание безобразного злодея, сколько и на титло пошлого негодяя. Но вот что возмутительно: жертвы свирепости и невежества, бурсаки, носят в себе точно те же начала дикой жестокости, звериного плутовства и отчаянного непонимания всего, что только относится к представлениям нравственного рода. Нет почти никакого различия между утесненными и утеснителями в этом странном мире, исключая того, что первые еще отданы на жертву крайней бедности, заедающей нечистоты и мучительного голода, с которым последние уже кое-как поборолись. Вот это положение обиженной стороны следовало бы уяснить, не ограничиваясь пошлой аксиомой, что таково обычное, действие испорченной среды над всякой натурой, какова бы она ни была сама по себе. Наравне со всеми пошлыми аксиомами, в ней есть доля правды, но этой крошечной доли уже недостаточно для объяснения фактов, о которых идет дело. Здесь не простая испорченность. Г. Помяловский показывает, что злодейство воспитателей успело истребить в воспитанниках всякое понятие о добре, успело вытравить душу их, чувство и сознание человеческого происхождения до последнего остатка. После такой операции очень естественно, что для читателя одинаково становятся отвратительны и одинаково вызывают его презрение как палачи, так и их жертвы. Против этого чувства не в состоянии бороться даже состраданье, порождаемое зрелищем невыносимых мучений, которые налагаются на целое беззащитное поколение. Но нравственная природа каждого читателя возмущается этой необходимостью питать презрение к юношам и детям, обреченным на страдания всякого рода. Она скорее подскажет ему мысль, что в произведении автора есть какой-либо недоговор или какая-нибудь ошибка, чем подчинится всем требованиям рассказа без возражения. Своим сухим, невыносимым беспристрастием к обеим сторонам автор восстанавливает против себя совесть читателя и вызывает в душе его такой вопрос: не есть ли это загадочное беспристрастие простое следствие поверхностных отношений самого писателя к предмету изображения? Не составляет ли оно результат еще не вполне оконченного разбора и исследования задачи, не объясняется ли оно проще и лучше слабостью наблюдения и размышления, которые при большем напряжении, может статься, открыли бы живую нравственную струю во всех этих юных каннибалах, предоставленных теперь единственно истязаниям начальников, воровству друг у друга и инстинктам взаимного поругания и истребления. Читатель готов пожертвовать автором, чтоб спасти честь угнетаемого поколения.