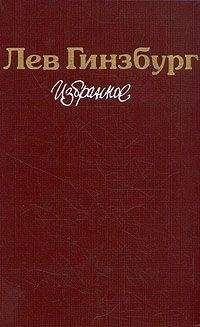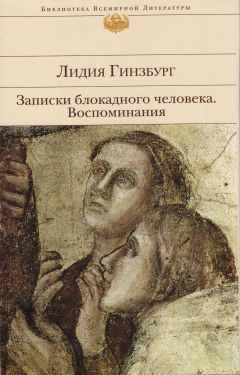…Представим себе этого человека. Высокий, сутулый, внутренне распрямившись, он покидает свой родной город, чтобы даже формально не подчиниться насилию, не потворствовать ему, не поступать вопреки своим убеждениям. Приходит в какую-то польскую деревню с малышами, с пасынками.
Человеку с юности нужны высокие примеры, поступки, достойные подражания. Их нельзя навязать. Хорошо, когда первой школой благородства является родительский дом, когда чувство собственного достоинства вырабатывается в подражании отцу, матери, друзьям дома. Намного трудней тем, кто вынужден совершенствоваться потом, в течение долгой жизни, не имея соответствующей подготовки с детства…
В 1629 году Михаэль Эдер женился на Марии Рисман, восемнадцатилетней дочери королевского судьи в Глогау, образованной и набожной девушке. Она любила музыку, поэзию, в доме собирались, дивно пели псалмы.
Но в этом доме поселилась смерть.
Брак Эдера и Марии Рисман длился всего шесть лет, в течение которых шестеро их детей либо умерли вскоре после родов, либо рождались мертвыми. Для Марии Рисман Андреас Грифиус стал собственным, родным ребенком. И она заменила ему мать.
Она умерла, не дожив до двадцати пяти лет. Свои первые латинские сонеты Грифиус посвятил ее памяти.
Это было время всевластия смерти… В Силезии бушевала война. Две враждующие армии разоряли страну. С лица земли исчезали деревни, на пару сапог можно было выменять дом. Поля заросли сорной травой. Сгорел Глогау. Ордам наемников сопутствовали голод, эпидемии — чума, тиф. За городскими стенами возводили чумные бараки, рыли могилы.
Летом 1632 года стоял невероятный зной. Землю сушило, жгло. Полураздетые, гонимые голодом и жаждой люди бродили по мертвым от зноя улицам.
Мертвецов не хоронили по четырнадцать дней. Не хватало гробов. Гроб можно было купить у солдат за 30–50 дукатов. Солдаты по ночам пробирались на кладбище, к свежим могилам, выкапывали гробы, перепродавали.
Для чумы не существовало государственных границ. В Бреславе она уничтожила половину населения. Вторглась в Польшу.
Тысячи людей умирали. Медики лишь беспомощно разводили руками. Внезапно разнесся слух, что найдено спасительное снадобье. Найдено или будет найдено вскоре… Вспыхнула надежда. Те, кто еще не заболел, молились: только бы дотянуть до появления чудесного зелья!.. Кто мог знать, что возбудитель чумы откроют лишь в 1894 году и что лишь в середине XX века начнут применять более или менее эффективные средства?..
Первые искры поэзии Грифиуса возникли среди праха, среди ночи отчаяния.
Он учился в гимназии во Фрауштадте, нынешнем Вшуве, жил в семье врача Карла Отто: был здесь чем-то вроде репетитора.
В декабре 1632 года в один и тот же день от чумы умерли жена доктора Отто, двое его сыновей, обе дочери. Сам Отто потерял слух, паралич навсегда приковал его к постели…
После долгой осады пал Магдебург — одно из самых трагических событий Тридцатилетней войны. Озверевшие солдаты Католической лиги ворвались в город.
Сто пятьдесят лет спустя, в своей «Истории Тридцатилетней войны», Шиллер писал о гибели Магдебурга со страстностью очевидца:
«Чудовищно, ужасно, возмутительно было зрелище, представшее здесь перед человечеством. Оставшиеся в живых выползали из-под груд трупов, дети, истошно вопя, искали родителей, младенцы сосали грудь мертвых матерей. Чтобы очистить улицы, пришлось выбросить в Эльбу более шести тысяч трупов; неизмеримо большее число живых и мертвых сгорело в огне; общее число убитых простиралось до тридцати тысяч…»
Говорят: печальная история. Скажем иначе: история печальна.
В гимназии, где учился Грифиус, поощряли стихотворчество, ораторское искусство. Грифиус писал латинскую поэму — о Вифлеемском избиении младенцев. Он читал школьную проповедь — о разрушении крестоносцами Константинополя.
Что значит — жизненный путь? Для одних это — постепенное нисхождение в могилу, для других — восхождение к вершинам духа, познания, самосовершенствования.
Отчим внушал: в бедствиях надо искать спасение в самом себе.
Бывает камнепад. На голову человека судьба обрушивает беды одну за другой, как град камней; кажется, им не будет конца, никогда не встанешь. Град камней способен размозжить голову, но не в силах сокрушить дух. Грифиус уже тогда был свободным человеком, свободной личностью оттого, что победил в себе зависимость от роковых обстоятельств, даже от смерти. Он яростно писал сонеты, короткие, в четырнадцать строк, выкрики. Ему было восемнадцать лет, когда он уходил, уплывал из охваченного войной и чумой Фрауштадта по Одеру в Данциг…
На камнях Европы до сих пор лежит тень исчезнувших империй, владычеств. Трудно поверить, что Испания владела Нидерландами, что Вена — столица австрийских Габсбургов — приводила в трепет народы, что существовала Османская империя и — до сравнительно недавнего времени — турецкое иго, что в Тридцатилетней войне, где, убивая Германию, дрались между собой немецкие католические и протестантские князья, участвовала не только Франция, но и грозная Дания, но и могущественная Швеция…
То было время двуличия, двойной, тройной игры, тайных переговоров, лжи во всем. Среди сумятицы, интриг, политических комбинаций и расчетов, которые сплелись в страшную стальную паутину, бились человеческие жизни и метался так называемый человеческий дух, к которому политика была совершенно безразлична.
Дух был не ее сферой…
Первой заграницей для меня была Маньчжурия, встреча с Европой произошла чуть позже. В армию меня призвали 27 сентября 1939 года, нас везли в теплушках восемнадцать дней, 15 октября выгрузили на небольшой тупиковой станции. Помню белокаменное, дореволюционной постройки здание вокзала и яркое, кумачовое морозное над ним зарево. Это был Благовещенск-на-Амуре, крайняя точка на границе с оккупированным тогда Китаем, с Маньчжурией, именовавшейся в ту пору Маньчжоу-Го… На той стороне, на другом берегу Амура, горели тусклые огоньки «заграницы»: город Сахалян-Хэйхэ.
На Амуре служили долго. Это была огромная, застоявшаяся армия. Служили в одних и тех же частях по шесть, даже по семь лет, в сопках.
Мы именовались Дальневосточным фронтом, то есть считались как бы фронтовиками и находились тоже как бы на передовой. И все же быт был скорее гарнизонный, казарменный, построенный в соответствии со строевым и дисциплинарным уставами. Мы размещались в казармах, офицеры жили в городке со своими семьями. Работал ДКА — Дом Красной Армии… Это был самый глубокий тыл советско-германского фронта и передовая линия Дальневосточного фронта, еще не вспыхнувшего, молчавшего, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год.
Бездействующая армия отличается от действующей не столько благополучием, сколько крайним напряжением нервов. Армия находилась не на отдыхе. Ее держали в напряжении приказы, строевая дисциплина, строгая обстановка границы. Перед нами стоял противник. Но гласно его не называли. Как должен был воспринимать дальневосточный солдат обращенный к нему с каждой газетной полосы лозунг: «Смерть немецким оккупантам!»?..
Поздно вечером 8 августа 1945 года по радио вдруг передали почти забытые песни времен Хасана и Халхин-Гола о самураях. Потом зазвучал вальс «На сопках Маньчжурии»… Через несколько часов начались военные действия против Японии…
Я перечитывал свои армейские письма, пылкие клятвы: «ваш и навсегда ваш», «ваш всегда и везде», заклинания, что непременно, обязательно, вопреки всему вернусь. Иногда это сопровождалось цитатой из Твардовского, Алигер, Антокольского, Симонова, из шульженковских и утесовских песен. Некоторые письма родителям были выдержаны в духе публицистики армейских газет, попадались и такие фразы: «Спасибо вам за письма, за заботу, за ваше повседневное, неослабное внимание…», «В дальнейшем я прошу подробнее, детальней и конкретней сообщать о себе…» Пейзажные зарисовки выглядели так: «На улице — лютый мороз, без снега. От страшного холода стоит туман, и луна, как ломтик лимона, кажется вмерзшей в фиолетовое бездонное небо».
Я читал эти письма, видел свое отражение как на дне колодца глубиной в тридцать пять лет…
В армии я писал стихи, печатал солдатскую лирику в армейской газете «За счастье родины», во фронтовой газете «Тревога». Печататься было сладостно, стихами отзываться на то, чем живешь, и тут же без промедления видеть свои строки набранными типографским шрифтом в газете. Конечно, те стихи не поднимались над самым посредственным уровнем гигантской стихотворной продукции, рожденной войной. И все же что-то от этих стихов, наверно, осталось, перешло в переводы. Когда вышли «Лагерь Валленштейна», ранние стихи Шиллера, немецкие народные баллады, в рецензиях на мои переводы писали, что мне более всего дается грубоватый, «плебейский» немецкий народный стих. Но вот мои собственные строчки армейских лет: