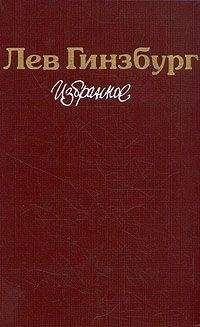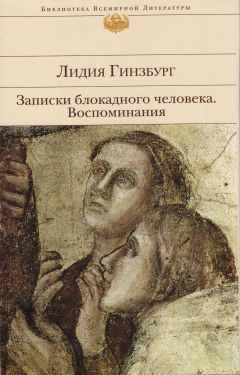Поэзию и математику в гимназии преподавал профессор Петер Крюгер, обладатель двух небесных глобусов. Крюгер составлял для Данцига астрологические прогнозы.
В те времена увлечение астрологией было повальным. Люди ощутили свою зависимость от далеких светил. Это было не столько суеверием, сколько смутным осознанием себя частицей Вселенной.
Астрологом был великий астроном Кеплер, открывший законы движения планет. Астрология — шарлатанство. Кеплер, однако, шутя говорил: «Конечно, эта астрология — глупая дочка астрономии. Но, боже мой, что сталось бы с умной матерью, если бы у нее не было этой глупой дочки!..»
Кеплер в конце жизни, гонимый войной, нуждой, сделался личным астрологом Валленштейна: посмеиваясь, составлял для него гороскопы. На годы вперед были расписаны «славные побоища», предсказано, что «полководец отличит себя достоинством, храбростью». Валленштейн верил звездам, верил в свою счастливую звезду. В 1634 году его убили заговорщики в крепости Эгер.
В Данциге профессор Петер Крюгер знакомил юношу Грифиуса с учением Коперника. В год, когда Грифиус родился, совет кардиналов внес труды Коперника в индекс запрещенных книг как не соответствующие священному писанию. Потом гнули великого Галилея. Известно, что, находясь под домашним арестом, страшась дальнейших преследований, Галилей уступил, отступился. В том же году, когда Галилей отрекся от себя, от Коперника, Грифиус писал пылкие стихи «К портрету Николая Коперника»: «О трижды мудрый дух! Муж больше чем великий…»
Грифиуса пронзило открытие величайшей из истин: «…мы вращаемся вкруг солнца своего!»
Было для него в том году и другое открытие. В Данциге Грифиус встретился с Мартином Опицем.
Опиц был великим поэтом. Его называли герцогом немецких струн, сравнивали с Гомером, с Пиндаром. Сравнение, вероятно, преувеличенное. Но для немецких поэтов XVII века он значил многое. Он вырвал немецкий стих из латинской оболочки, дал ему возможность говорить на родном языке. Поэтика педантичная наставница поэзии. Но «Книга о немецком стихотворстве» Опица проникнута состраданием к униженному человечеству, к попранной родной речи. Слова, как и людей, пинают, калечат, мучат. Говорят: слово способно убить. Можно убить и слово.
Некоторые полагают, что стили создаются теоретиками.
Барокко — больше чем стиль: состояние души, мира. Ужас не в том, что жизнь и смерть, смерть и любовь — рядом, что они находятся в постоянном противоборстве, а в том, что они сосуществуют, что они уживаются. Иногда это осознаешь с беспощадной отчетливостью.
Опиц открыл закон, бесконечно простой и бесконечно сложный: в бедствиях народ, человек нуждаются в утешении. Эту миссию должна принять на себя поэзия. Врачевать, помогать, не докучая своим сочувствием, настойчиво выводить из горя. Это большой. редкий дар. Люди читали его «Песни утешения средь бедствий войны», слышали рассудительную, мужественную, спокойную речь. Сердце — двигатель внутреннего сгорания: все сгорает внутри нас. Надо призвать на помощь рассудок.
Разрушит враг твой дом, твой замок уничтожит,
Но мужество твое он обстрелять не может…
Спасение — в чистоте и глубине скорби, в праведности поступков: в добродетели.
С чего же мы скорбим, неистовствуем, плачем,
Раз в глубине сердец сокровище мы прячем?..
…Бывает: вдруг погружаешься в жуть жизни, в ледяную черную воду, в то, что прежде было тебе недоступно, что еще вчера было для тебя лишь отвлеченным понятием — книгой, искусством.
Видел сон об утонувшем ребенке. Все во мне противится, мечется: нет! нет! нет! нет! Потом в сон, в полусознание кто-то вдавливает в меня мысль: свыкнись, прими как должное, рассудком прими, смирись. И я смиряюсь. Во сне.
Справедливо ли это? Или средневековое средство утешения — «смирись» устарело?..
…Прошло три шестилетия Тридцатилетней войны. Начиналась четвертое.
В 1636 году в имении Шенборн, в Силезии, жил пфальцграф Георг Шенборнер — человек высокой учености, сочинитель книг по истории права, по теории государства, обожатель поэзии.
Шенборнер прослышал о Грифиусе, пригласил его к своим детям воспитателем.
Все как в старинном романе: поместье магната, молодой домашний учитель, дочь магната Элизабет.
Молодой учитель влюблен в Элизабет, пишет ей стихи… Литературоведы установят, что все любовные сонеты Андреаса Грифиуса были посвящены Евгении — Элизабет Шенборнер.
Потом будет разлука, скитания по дорогам войны, дальние странствия.
После Лейденского университета, после Амстердама, Парижа, Рима, Венеции, Флоренции, Страсбурга он — знаменитый поэт, драматург, автор «Екатерины Грузинской», слава отечества — вернется, снедаемый надеждой, в Силезию.
22 ноября 1647 года он узнает: Элизабет фон Шенборнер, не дождавшись его, вышла замуж. За три дня до его возвращения. Она ждала девять лет.
Судьба: не судьба.
Кончится Тридцатилетняя война, заключат мир.
В день провозглашения мира Грифиус в очередном сонете «К Евгении» напишет:
Но без твоей любви мне даже мир не впрок.
Там будут и такие слова:
Но одинок ли я? Ты здесь — в мечте, во сне.
И пропадает боль… Так что ж ты значишь въяве?!
Но это уже 1648 год. Вернемся к началу.
Шенборнер покровительствует молодому поэту. В городе Лисса (Лешно) он издает первый сборник его сонетов — тоненькую тетрадку.
На этом идиллия обрывается.
Был 1636 год. Люди тащились по войне, по годам войны, по дорогам войны, как матушка Кураж, впряженная в свою повозку.
Рядом с имением Шенборнера в одну ночь, за несколько часов, сгорел город Фрейштадт. Пожар вспыхнул внезапно. Первым заметил дым брат Грифиуса Пауль, начал будить людей, но, вместо того чтобы начать борьбу с огнем, люди в панике разбегались, среди дыма и пламени сновали грабители.
Грифиус направился на пепелище, изучил причины пожара с дотошностью следователя. Собранные им материалы и сегодня еще хранятся в городском архиве Вроцлава (тогда — Бреславля). Пожар не был вызван непосредственно обстоятельствами войны. Скорее, засухой, беспечностью сторожей, отсутствием запасов воды, багров, лестниц. Но в стихотворении Грифиуса «На гибель города Фрейштадта» — картина военного вторжения: пороховой дым, гром пушек, разрушение домов, бесчинства солдатни. Не Фрейштадт горел, не просто Фрейштадт, а Германия, охваченная пламенем войны, погрязшая в пороках, тонущая в крови.
Грифиус бродил среди погорельцев. Слезы ели глаза. Но он сказал: не я плачу — мы.
Слезы отечества.
Так родилась формула времени.
Перед ним предстали символы войны: орды чужеземных наемников, взбесившаяся картечь, ревущая труба, меч, жирный от крови. Именно жирный, а не красный: ненасытное чудовище, отъевшееся на крови.
Сонет «Слезы отечества» имеет подзаголовок «Anno 1636».
Но теперь я должен рассказать о своей вине перед Грифиусом.
Вот мой перевод его сонета, печатавшийся массовыми тиражами десятки раз, неоднократно одобренный критикой (перевод был сделан в 1961 году):
Мы все еще в беде, нам горше, чем доселе.
Бесчинства пришлых орд, взъяренная картечь,
Ревущая труба, от крови жирный меч
Похитили наш труд, вконец нас одолели.
В руинах города, соборы опустели.
В горящих деревнях звучит чужая речь.
Как пересилить зло? Как женщин оберечь?
Огонь, чума и смерть… И сердце стынет в теле.
О скорбный край, где кровь потоками течет!
Мы восемнадцать лет ведем сей страшный счет.
Забиты трупами отравленные реки.
Но что позор и смерть, что голод и беда,
Пожары, грабежи и недород, когда
Сокровища души разграблены навеки?!
Прошло семнадцать лет. Для меня произошло крушение мира. Июльской ночью 1978 года я сопоставлял свой перевод с подлинником. Вот из чего состоит текст Грифиуса:
«Мы теперь полностью и даже более чем полностью обложены армиями. Орды наглых народов, беснующаяся труба, жирный от крови меч, гремящая картечь пожрали наш пот, наш труд и наши припасы. Башни стоят в огне, церковь переобращена, ратуша повергнута в ужас, сильные зарублены, девы опозорены, и куда ни кинешь взгляд, повсюду огонь, чума и смерть, пронизывающие душу и ум. Здесь через укрепления и города беспрестанно течет свежая кровь. Уже минуло трижды шесть лет с тех пор, как наши реки, отяжеленные множеством трупов, текут замедленно. Но я еще умалчиваю о том, что хуже, чем сама смерть, что ужаснее чумы, пожаров и голода, что теперь сокровища души у многих разграблены…»
Все вдруг осветилось, как при вспышке молнии. Беда моего перевода, в котором соблюдены и размер подлинника, и система рифмовки, который почти точен и примерно воссоздает ту же картину и ту же мысль, что и в подлиннике, состоит в приблизительности, в какой-то высшей неточности, особенно противной оттого, что перевод внешне благозвучен и в целом даже удачен.