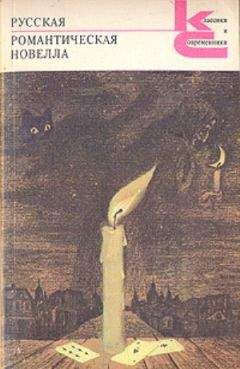С этого времени карьера Лукача становится поразительным свидетельством того, как тяжело свободному интеллектуалу сообразоваться со взглядами, все очевиднее принимающими характер замкнутой системы, а кроме того – каково жить в обществе, которое крайне серьезно относится к тому, что говорят и пишут интеллектуалы. Дело в том, что изначально лукачевская интерпретация марксизма была вольной и дискуссионной.
Вскоре после вступления в Партию Лукач – в первый раз, а всего их было два, – принял участие в революции. Вернувшись в Венгрию, он в 1919 году стал министром просвещения при недолговечной коммунистической диктатуре Белы Куна. Когда режим Куна свергли, Лукач бежал в Вену, где прожил десять лет. Главная его книга этого периода – философское исследование марксистской теории, теперь уже почти легендарная «История и классовое сознание» (1923): возможно, эту его работу немарксисты ценят больше всех остальных. За нее он сразу же подвергся жестоким и неослабным нападкам со стороны коммунистического движения.
Споры вокруг этой книги обозначили поражение Лукача в борьбе за лидерство в Венгерской компартии: эту борьбу с Куном он вел все годы венской эмиграции. После того как весь коммунистический мир, начиная с Ленина, Бухарина и Зиновьева, ошельмовал его, Лукача исключили из Центрального комитета Венгерской компартии и сняли с поста главного редактора ее журнала «Коммунизмус». Но все это десятилетие Лукач защищал свои книги, держался стойко и не отступался от своих слов.
Затем, в 1930-м, после года в Берлине, он на год отправился в Москву, чтобы заниматься исследованиями в штате знаменитого Института Маркса и Энгельса (его блистательный директор Д. Рязанов сгинул потом в чистках конца тридцатых). Мы не знаем, что в это время происходило с Лукачем. Известно, что в 1931-м он вернулся в Берлин, а в 1933-м, когда к власти пришел Гитлер, опять переехал в Москву. В том же году он публично, в самых унизительных выражениях, отрекся от «Истории и классового сознания» и всех своих предшествующих писаний, заявив, что они были заражены «буржуазным идеализмом».
Лукач двенадцать лет прожил в Москве беженцем; даже после покаяния и многочисленных попыток привести свою работу в соответствие с коммунистическими установками он оставался в немилости. Но, в отличие от Рязанова, он пережил ужас чисток. Одна из его лучших книг, «Молодой Гегель», написана именно в этот период (в 1938 году, но опубликована была лишь десятью годами позже), как и постыдный упрощенческий трактат против современной философии – «Разрушение разума» (1945)[18]. Контраст между этими двумя книгами характеризует глубокие качественные колебания в поздних работах Лукача.
В 1945 году, когда война окончилась, а в Венгрии пришло к власти коммунистическое правительство, Лукач навсегда вернулся на родину и стал преподавать в Будапештском университете. Среди написанных за это время книг – «Гёте и его время» (1947) и «Томас Манн» (1949). Затем, когда Лукачу был 71 год, он во второй раз пустился в революционную политику (что, конечно, невероятно трогательно). Он стал одним из вождей революции 1956 года и вошел в кабинет министров Имре Надя. После подавления революции Лукача выслали в Румынию и приговорили к домашнему аресту; через четыре месяца ему разрешили вернуться в Будапешт к преподаванию и продолжить публиковаться на родине и в Западной Европе. Только возраст и огромный международный авторитет Лукача спасли его от судьбы Имре Надя. Из всех вождей революции он один ни разу не предстал перед судом и ни в чем не покаялся.
Сразу после революции он напечатал работу «Реализм в наше время» (1956) и в том же году выпустил первую часть давно ожидаемой «Эстетики» – она составила два громадных тома. Его продолжали атаковать бюрократы от культуры и старшие критики-коммунисты – хотя нападок было гораздо больше, например, в Восточной Германии, чем на родине, при все смягчавшемся режиме Кадара. Его ранние тексты, от которых он по-прежнему отказывался, изучались в Англии, Западной Европе, Латинской Америке – в свете нового интереса к ранним работам Маркса. В то же время для значительной части представителей нового поколения западноевропейских интеллектуалов именно поздние работы Лукача – первая попытка осторожного, но неотвратимого ниспровержения идей и практик сталинизма.
Очевидно, что у Лукача был большой дар личного и политического выживания, то есть дар быть разным человеком для множества разных людей. В результате он совершил почти невозможное: стал одновременно маргиналом и центральной фигурой в обществе, где положение интеллектуала-маргинала было практически невыносимым. Для этого ему пришлось провести большую часть жизни – так или иначе – в ссылке. О внешней ссылке я уже писала. Но была и своего рода внутренняя ссылка, которая сказывалась в выборе предметов исследования. Самые значимые для Лукача писатели – Гёте, Бальзак, Скотт, Толстой. Благодаря возрасту и навыкам восприятия, сформированным до становления канона коммунистической культуры, Лукач сумел защитить себя с помощью (интеллектуальной) эмиграции из настоящего. Единственные современные писатели, заслужившие его безоговорочное одобрение, – те, которые по сути продолжали традицию романа XIX века: Манн, Голсуорси, Горький и Роже Мартен дю Гар.
Но эта преданность литературе и философии XIX века – не просто эстетический выбор (у марксиста – или христианина, или платоника – вообще не может быть чисто эстетического выбора в искусстве). Мерка, с которой Лукач подходит к настоящему, – моральная, и примечательно, что эту мерку он заимствует у прошлого. Цельность восприятия, свойственная прошлому, – именно то, что Лукач имеет в виду под «реализмом».
Еще один способ эмиграции из настоящего для Лукача – выбор языка. Только первые две его книги написаны по-венгерски. Остальные – около тридцати книг и пятидесяти статей – по-немецки, а писать в сегодняшней Венгрии по-немецки – безусловно, полемический акт. Сосредоточившись на литературе XIX века и упорно держась немецкого языка, Лукач продолжает отстаивать коммунистические, европейские и гуманистические ценности, противопоставляя их ценностям националистическим и догматическим. Живя в коммунистической и провинциальной стране, он остается настоящим европейским интеллектуалом. Нет смысла пояснять, что у нас его узнают с большим запозданием.
Может быть, неудачно то, что две книги, теперь представляющие Лукача американскому читателю, – собрания литературно-критических работ; обе принадлежат не к «раннему», а к «позднему» периоду[19]. В «Исследования европейского реализма» входят восемь статей, посвященных главным образом Бальзаку, Стендалю, Толстому, Золя и Горькому; они были написаны в России в конце тридцатых, во время чисток. Это страшное время оставило здесь шрамы в виде нескольких грубо политизированных пассажей; книга увидела свет в 1948-м. «Реализм в наше время» – книга меньшего объема. Она написана в пятидесятые, ее стиль не столь академичен, аргументация живее и свободнее. В трех входящих сюда эссе Лукач рассматривает стоящие сегодня перед литературой варианты выбора и отвергает «модернизм» и «социалистический реализм» в пользу так называемого «критического реализма» – это в первую очередь традиция романа XIX века.
Я говорю, что этот выбор книг неудачен, потому что, хотя перед нами Лукач – доступный, вполне удобочитаемый, как и в своих философских трудах, – мы принуждены оценивать его только как литературного критика. Какова же внутренняя ценность Лукача как литературного критика? Сэр Герберт Рид расточал ему щедрые похвалы; Томас Манн называл его «важнейшим из ныне живущих литературных критиков»; Джордж Стайнер считает его «единственным крупным немецким литературным критиком нашего времени» и утверждает, что «среди критиков только Сент-Бёв и Эдмунд Уилсон сравнимы с Лукачем по широте отклика» на литературные явления; а Альфред Казин пишет, что Лукач – талантливейший, надежный и важный проводник по великой традиции романа XIX века. Но отвечают ли издаваемые книги этим утверждениям? Думаю, нет. Скорее, я подозреваю, что нынешняя мода на Лукача, поддерживаемая восторженными излияниями, которые можно встретить в предисловиях Джорджа Стайнера и Альфреда Казина, обусловлена больше соображениями культурной благожелательности, чем строго литературными критериями.
Сочувствовать поборникам Лукача – дело простое. Я и сама склонна оправдывать его, трактовать сомнения в его пользу – хотя бы из чувства протеста против бесплодия холодной войны, из-за которого в последнее десятилетие серьезное обсуждение марксизма было невозможно. Но проявлять великодушие к «позднему» Лукачу мы можем только в том случае, если не будем принимать его целиком всерьез, если будем относиться к нему немного снисходительно, а его моральный пыл рассматривать с точки зрения эстетики, стиль предпочитать идеям. Что прикажете делать с тем фактом, что Лукач не приемлет Достоевского, Пруста, Кафку, Беккета, почти всю современную литературу? Заявление, которое делает Стайнер в своем предисловии, – «Лукач – радикальный моралист… подобный викторианским критикам… В этом выдающемся марксисте сидит пуританин старого толка» – едва ли можно признать адекватным. Такие поверхностные и ловкие комментарии, призванные одомашнивать известные виды радикализма, – все равно что отказ от суждения. Узнать, что Лукач – как и Маркс, и Фрейд, – придерживается общепринятой морали и даже не лишен пуританства, конечно, очень мило и трогательно, но только если мы берем за основу клише «интеллектуал – чудовище». Дело вот в чем: Лукач действительно считает литературу частью спора о морали. Убедителен ли, силен ли у него этот подход? Совместим ли он со сложными, требующими различений, по-настоящему литературными суждениями? Я со своей стороны считаю работы Лукача 1930-х, 1940-х и 1950-х годов в значительной степени ущербными – не из-за марксизма, а из-за грубости аргументов.