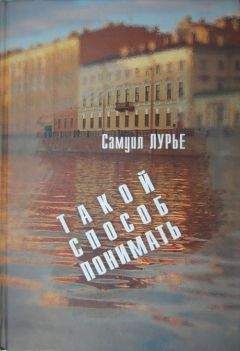...С этого гулянья Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждения..."
Пушкин писал Вульфу из Тверской губернии: "Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились! То-то побесили б мы Баронов и простых дворян!" (С демонским восторгом репетировал Пушкин собственную гибель, приняв зачем-то роль, которую через шесть лет припишет Геккерну. Кто-то сказал в 1837 году: будь жив Дельвиг, он не допустил бы убийства; пожалуй; среди всех этих стареющих безумных юношей Дельвиг был единственный взрослый. От Дантеса он Пушкина заслонил бы - а от судьбы? От того же Вульфа, страшно оживившегося при известии о женитьбе Пушкина: "Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему бедному носить рогов, то тем вероятнее, что его первым делом будет развратить жену..." Анна Петровна и в качестве почтенной мемуаристки начинает повествование об этой женитьбе с остроты, якобы сказанной Пушкиным баронессе Дельвиг в 1829 году: "Он привел фразу - кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: "Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене - ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас"").
Что думал Дельвиг? Мы только знаем, что ему снилось. 1828 год, стихотворение "Сон" (раньше называлось "Голос во сне"). Если забыть, что рассказано выше, - оно невнятное, почти неживое, а на самом деле - одно из наиболее удивительных в девятнадцатом веке: метафора отпирается и приводится в движение личным шифром, как у символистов.
"Мой суженый, мой ряженый,
Услышь меня, спаси меня!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я сбилася с тропы, с пути,
С тропы, с пути, с дороженьки,
И встретилась я с ведьмою,
С заклятою завистницей
Красы моей - любви твоей.
Мой суженый, мой ряженый,
Я в вещем сне впоследнее
К тебе пришла: спаси меня!
С зарей проснись, росой всплеснись,
С крестом в руке пойди к реке,
Благословясь, пустися вплавь,
И к берегу заволжскому
Тебя волна прибьет сама.
На всей красе на береге
Растет, цветет шиповничек:
В шиповничке - душа моя:
Тоска - шипы, любовь - цветы,
Из слез моих роса на них.
Росу сбери, цветы сорви,
И буду я опять твоя".
- Обманчив сон, не вещий он!
По гроб грустить мне, молодцу!
Не Волгой плыть, а слезы лить!
По Волге брод - саженный лед,
По берегу ж заволжскому
Метет, гудит метелица!
Ничего нельзя было исправить, нечем помочь, незачем жить.
Незачем? Судьба не спрашивает. В мае 1830-го, поздравляя новобрачного Пушкина, Дельвиг пожелал ему "быть столько же счастливым, сколько я теперь", - и пояснил: "Я отец дочери Елизаветы. Чувство, которое, надеюсь, и ты будешь иметь, чувство быть отцом истинно поэтическое, не постигаемое холостым вдохновением..."
Вульф и Керн исчезли с горизонта; ипохондрия прошла - но только до августа.
В августе Дельвиг загрустил опять. Какую-то повесть якобы сочинял, не записывая, - только рассказал однажды сюжет - о погибшем семейном счастье, об оскорбленной любви, о нежеланном ребенке... "Не помню, как намеревался Дельвиг кончить свою семейную и келейную драму, - аккуратно играет словами Вяземский. - Кажется, преждевременною смертью молодой женщины".
Барочная архитектура мелодий Дельвига волнует лишь самых грустных. Лермонтов кое-что перенял; Анненский; Ходасевич.
Был в русской литературе человек, на Дельвига похожий: в таинственном рассказе "Ионыч" не случайно звучит "Элегия".
Вернее: Чехов тоже походил на того англичанина, что любил танцевать дома, один или с сестрой.
Дельвигу танцевать было не с кем, он утешался пением. Последний романс его был такой:
Нет, я не ваш, веселые друзья,
Мне беззаботность изменила.
Любовь, любовь к молчанию меня
И к тяжким думам приучила.
Нет, не сорву с себя ее оков!
В ее восторгах неделимых
О, сколько мук! о, сколько сладких снов!
О, сколько чар неодолимых.
В Лицее, на уроках, прогулках и пирушках, Дельвиг то и дело засыпал то есть задумывался. Одна из тогдашних мыслей, вероятно, поддерживала его до конца. Ее пересказал в каком-то письме Пушкин:
"Цель поэзии - поэзия - как говорит Дельвиг (если не украл этого)".
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК РОМАН
Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном;
Где, может быть, суровой доле
Я чем-то свыше обречен...
Полежаев. "Осужденный"
Его цель - сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился.
Лермонтов. "Герой нашего времени"
Празднуя то ли очередное свое примирение с так называемой Действительностью, то ли новую над ней победу, знаменитый критик Белинский на радостях простил ей убийство поэта Полежаева. Нетрезвого, дескать, поведения был покойный - в сущности, поделом ему ранняя утрата таланта и преждевременная смерть - во всяком случае, неистовый Виссарион за него не мститель. Пить надо меньше. "Полежаев не был жертвою судьбы и, кроме самого себя, никого не имел права обвинять в своей гибели".
Не имел права - конечно же, не имел! Любой прокурор по надзору за деятельностью Министерства Любви подтвердит! Все эти жалобы, пени, вздохи:
Но ах! Когда и где забуду,
Что роком злобным я гоним?
Гонимый лютою судьбой...
Атoм, караемый судьбой!
- необоснованная претензия, больше ничего. Некоторые люди, пока не отнимешь у них чернила и жизнь, проявляют поразительную назойливость.
О, для чего судьба меня сгубила?
Скажи ему. Ишь чего захотел. Данные агентурной разработки оглашению не подлежат впредь до ближайшей революции. А покамест не угодно ли обойтись мнением современников? - "Жизнь его представляла зрелище сильной натуры, побежденной дикой необузданностию страстей, которая, совратив его талант с истинного направления, не дала ему ни развиться, ни созреть. И потому к своей поэтической известности, не для всех основательной, он присовокупил другую известность, которая была проклятием всей его жизни..."
Слышите, Полежаев, какой эпитафией украсил несуществующую Вашу могилу властитель дум? Вы сами, говорит, во всем виноваты - пить, говорит, следовало меньше, Полежаев, - нюхали бы лучше табак - в классики бы вышли.
Белинский, надо думать, не знал - как ни странно:
- что из университета в армию Полежаев загремел не за дебоши в борделях и не за поэму про дебоши - не за похабщину, а за крамолу, из похабщины выуженную анонимным патриотом: ни с того ни с сего восемь строчек - умы какие-то в цепях, и когда же, о глупая моя отчизна, ты в дикости своей очнешься и свергнешь бремя презренных палачей... Оскорбленная отчизна посоветовала ему, как Фамусов: - Поди-тко послужи! - и в лоб поцеловала на прощанье - мол, в случае чего дозволяю воззвать, насовсем не позабуду, не бойся; ну, а как научишься отчизну любить - не исключено, что и прощу;
- что не прощен, а наоборот, вскоре опущен в рядовые - тоже отнюдь не за пьянство, а как раз чтобы неповадно было взывать раньше времени; уважительный, нечего сказать, сыскал предлог для самовольной отлучки из места расположения воинской части: письма его, видите ли, до государя не доходят, вот и вздумалось напомнить о поцелуе лично; а с дезертиром у начальства разговор короткий: не сладостно, стало быть? не почетно состоять Бутырского полка унтер-офицером? ступай, братец, в нижние чины, да без выслуги, без выслуги, навсегда.
Тут запьешь. А нету денег - и шинель в кабаке оставишь. А в казарме фельдфебель привяжется - и фельдфебеля, в Вольтеры данного, по матери пошлешь.
Но не фельдфебель - ваша правда - не фельдфебель виноват. И все дальнейшее будем почитать удачей: вместо путешествия сквозь строй - полгода в подвале, а простуда когда еще разовьется в чахотку; и на Кавказе не только не убит в бою, но через пару лет и нашивки вернули.
Вот и воспитывал бы свой талант, в трезвом виде дожидаясь эполет, - а то примерил их впервые в гробу - что хорошего?
Положим, одиннадцать лет унижений за игру молодого ума - такая плата не всякому таланту по средствам. Полежаев горевал и обижался так, словно за ним, кроме той студентской поэмки, ничего непростительного нет, - а над его головой раскачивался донос потяжелей первого - и тоже от анонимного патриота: якобы Полежаев и в армии политическое пишет, и престолу местью грозит. Несколько строк патриот привел - совершенно безумных. Бенкендорф, кажется, не поверил - кажется, и не доложил, - что-то с этим доносом было нечисто, в противном случае Полежаев умер бы раньше, и не в госпитале, но, имея подшитым к делу такой документ, могло ли Третье отделение поддерживать ходатайства благожелательных генералов о производстве Полежаева в прапорщики?