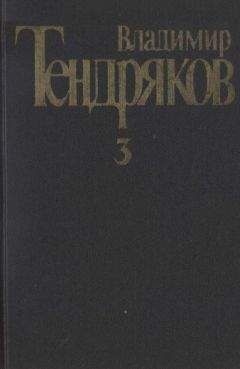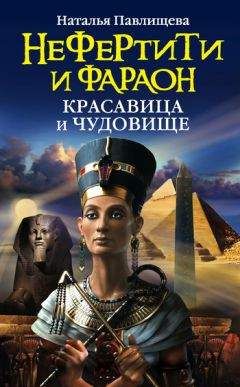— Спишь ай нет? — густой, осторожный голос отца.
— Нет еще, влезай.
— На минутку только…
Зашевелились под тяжелыми ногами половицы, отец, расплывчатый, большой в темноте, опустился рядом, посапывает.
— Спросить хочу… Так ли нужны картинки людям, которые ты будешь малевать? Вот хлеб нужен, а картинки… А?
— Не единым хлебом жив человек.
— А не единым ли? Не обман ли это?.. Человек-то горазд обманывать себя. Оглянешься кругом: что ты сам, что береза или куст репея — суть-то одинакова. Репей живет, чтоб жить. Родится, плод дает другому репею, умирает, и человек так же… Ну в чем отличка — в том, что человек больше других на земле наследит, и только-то… Одинакова суть — пожить да помереть.
Федор не видел в темноте лица отца, но чувствовал — взволнован, по-большому, по-серьезному. Не зря сюда поднялся этот нелюдим. Похоже, в последние годы он ищет какого-то ответа на свою долгую растрепанную жизнь — в общем-то жизнь неудачника.
— А ты бы хотел быть репеем? — спросил Федор.
— А чего ж, как не жить… У репея, должно, свои радости. Засуха — вянет: знать, беда настала; линёт дождичек — ожил, рад, счастье пришло.
— Врешь, не хотел бы! — Федор поднялся на локте. — Почему-то ты бросался в жизни, искал чего-то, не хотел по-репейски жить. А по-репейски-то можно и в человеческой шкуре — жрать да пить, с бабой спать, чтоб другого человека-репея на свет божий родить. Не захотел зачем-то.
— М-да… — Отец долго сидел смутной тенью, посапывал. — М-да… Оно верно… Ну, спи. — Он поднялся. — Не совсем ловко ты тут пристроился, кабы дождь не пошел. Все руки не доходят залатать крышу. Руки не доходят, да и незачем. Свой век со старухой мы и под такой как-нибудь прокукуем.
Он ушел по шевелящимся ветхим половицам, утратившим даже способность скрипеть. Ушел озадаченный, но явно не убежденный и уж конечно не успокоенный.
А Федор ворочался с боку на бок, ерзал, не мог уснуть, прислушивался. Наконец он услышал где-то на задах, на огороде:
Березыньки-то закуржавели,
Елочки-то замозжевели…
И тогда, счастливо про себя улыбаясь, он уснул, сразу забыв все высокие задачи перед родом людским, которые предстояло ему свершить.
6
Вот кто сдал, так это Савва Ильич.
Они обнялись, и Федор почувствовал под своими руками острые, собранные из хрупких костей плечи старика. Савва Ильич стал на полголовы ниже Федора, пожелтел, сморщился, курносое лицо сейчас напоминало грустную мордочку щенка, отнятого от суки. Волосы по-прежнему художнические, длинные, но поредели, висят прямыми жидкими прядями. От тощей фигурки, одетой в рыжий с заплатами на локтях пиджак, казалось, исходил при движении сухой шелест.
А когда Савву Ильича усадили за стол — опять праздничный, опять с жареной жирной картошкой, с укладистыми пышками, с бутылкой туманного самогона — Федор увидел то, чего не заметил с первого взгляда, — голодно обострившиеся скулы на лице старого учителя рисования. Савва Ильич не имел приусадебного участка, был не из тех, кто умел ловко изворачиваться из кулька в рогожку, а годы войны на станции, забитой эвакуированными, были жестоки для идеалистов, не умеющих приспособиться к мелочно-трезвой жизни.
Он сохранил все рисунки Федора, начиная с первого альбома, им самим подаренного когда-то. Он со стыдливой выступившей краской на скулах, с горьким блеском в глазах покаялся Федору:
— Скрывать нечего, мне тут пришлось не совсем того… Из деревень приносили фотокарточки убитых, срисовывал, увеличивал, в рамки вставлял… — Весь погрустнел, съежился. — С фотографий рисовал… Но, знаешь, иначе не выжил бы. Картошки приносили, иногда яичек…
С фотографий рисовал, не с натуры, — торговал святым искусством, предал природу, унижен в собственных глазах.
Федор и с любопытством, и с глухой тревогой листал свои старые работы. Не понять — хороши или плохи, но есть в кое-каких — не во всех! — бездумная, примитивная смелость. На одной стволы сосен брошены каждый одним взмахом, на другой стожок сена, лиловый горбун. Надо же решиться — лиловый! Теперь, пожалуй, прежде бы подумал, чем раскрашивать, а подумав, вряд ли осмелился.
Были когда-то среди этих работ любимцы. Например — опушка с нескошенным лугом в цветах белых ромашек и голубых колокольчиков. Теперь не нравится: сама опушка как стена глухая, цветочки слишком умильные — под Савву Ильича старался. Нет, ни одной работы не покажет в институте — старье, давность. Пусть их возьмет себе Савва Ильич на память.
Под вечер, захватив краски, вышли вдвоем на этюды.
Но едва перебрались по шатким мостикам за Уждалицу, на скошенные луга, как ударил дождь. Короткий летний дождь из куцей, но сердитой тучи, время от времени, как кучи булыжников, обваливавшей гром. А солнце продолжало светить. А воздух, наполненный ливнем, сверкал, кипел, бесновато праздничный, хохочущий, подмывающий на что-то озорное, мальчишеское. А в этом кипящем серебряном воздухе купались коровы, яркие на зелени, лоснящиеся. Они, захудалые и низкорослые, сейчас казались монументально величавыми, важными — языческие идолы сытости.
Туча, нутряно урча, уползла дальше, оставив крикливо яркий, мокрый, объятый пылающей зеленью солнечный мир. А в довершение всего, как последний гимн в общем торжестве, из конца в конец по небу в головокружительном размахе встала четкая, твердая — сквозь не пролетит птица — радуга. Но всему небу, пустив корни в мокрую, пылающую землю.
Савва Ильич в морщинисто облегающих тощие ляжки штанах, с бабьими волосами, прилипшими к щекам, смешно засуетился, подавленно выкрикивая:
— Ах ты!.. Ах ты!..
Стал тормошить старый ученический портфель, где лежала бумага и краски.
— Ах ты!.. Ах ты, красота-то какая!
А радуга, как в детстве, одной ногой упиралась в жиденький лесок на недальнем — рукой подать — Роговском болоте. И, как в детстве, подмывало туда бежать, проверить, что там действительно живет радуга, увидеть ее вблизи, пощупать ее руками.
Федор тоже сел на пенек с бумагой на коленях, по не притронулся, только смотрел… Беспомощен и бессилен, не может оскорбить то, что видит, то, что переживает сейчас. Сидел и смотрел, не двигаясь, пока радуга не слиняла.
А Савва Ильич написал картинку: зеленый лужок, торчат деревья, на небе — ярмарочной дугой радуга.
…Дома мать подала письмо. Федор нетерпеливо разорвал конверт — бумага с грифом института, вызов в Москву.
На поезд Федора провожали мать, отец и Савва Ильич.
У матери заплакано и скорбно лицо. Быстро же у нее счастье сменяется горем, бесхитростен человек. Сморкается в платочек, вздыхает, повторяет сотый раз ненужные слова:
— Пиши почаще, не забывай стариков.
— Еще не примут, встречать придется.
— Ох… — и не договаривала.
Была бы рада, если б не приняли, — жил бы рядом, женился, наплодил внуков на радость бабушке, пришла пора — проводил бы в могилу. Что еще надо от жизни?
Савва Ильич, в свежей рубахе, с гладко приглаженными волосами, был взволнован, преданно и любовно заглядывал в лицо Федора, суетился, со страстью повторял:
— Верю! Верю в тебя! Ты — талант! Ты пробьешь себе дорогу. Как знать, как знать, станешь великим, вспомнишь Матёру и нас. Мне, чего уж, не судьба, в тебя верю, как в «Отче наш»…
В руках он держал какой-то аккуратно перевязанный веревочкой сверток.
Отец, в старом картузе, в суконном пиджаке, просторно свисавшем с костистых, широких плеч, был замкнут и молчал, но Федор время от времени ловил на себе его сосредоточенный взгляд. Было почему-то жаль не мать, которая плакала, а его. Горе матери невелико, быстро притерпится, что сын на учебе, а отец только-только начал сближаться, почти нашел сына, а сын исчезает — опять одиночество, остается сам с собою, с невеселыми мыслями о жизни, прожитой не так, как хотелось бы.
Станция — тяжелая башка водокачки за крышами складов, бревенчатое здание вокзала с позеленевшим от времени медным колоколом у входа, начавший полнеть начальник станции в фуражке с красным верхом.
Подошел поезд. Один из тех поездов, какие Федор в детстве с завистью провожал глазами, читал таблички на вагонах: «Архангельск — Москва», «Владивосток — Москва», «Москва — Хабаровск».
Федор обнял мать, поцеловал:
— Буду, буду писать. Только бы приняли.
Обернулся к отцу:
— Ну, отец…
И смутился, невольно заробел — у отца в тени под козырьком картуза подозрительно блестят глаза и тяжелые, грубые морщины на лице размякли.
— Учись, уж ладно… — сказал отец, протягивая руку, стесняясь при всех обнять сына. — Учись… Добивайся… Да вот еще… И еще вот что хочу сказать… Я-то думал, другого такого, как я, неспокойного дурака, не сыщется больше. А теперь вот ты неспокоен, едешь искать чего-то. Может, что-то найдут люди. Неважно — ты, твой сын, — найдут. А?..