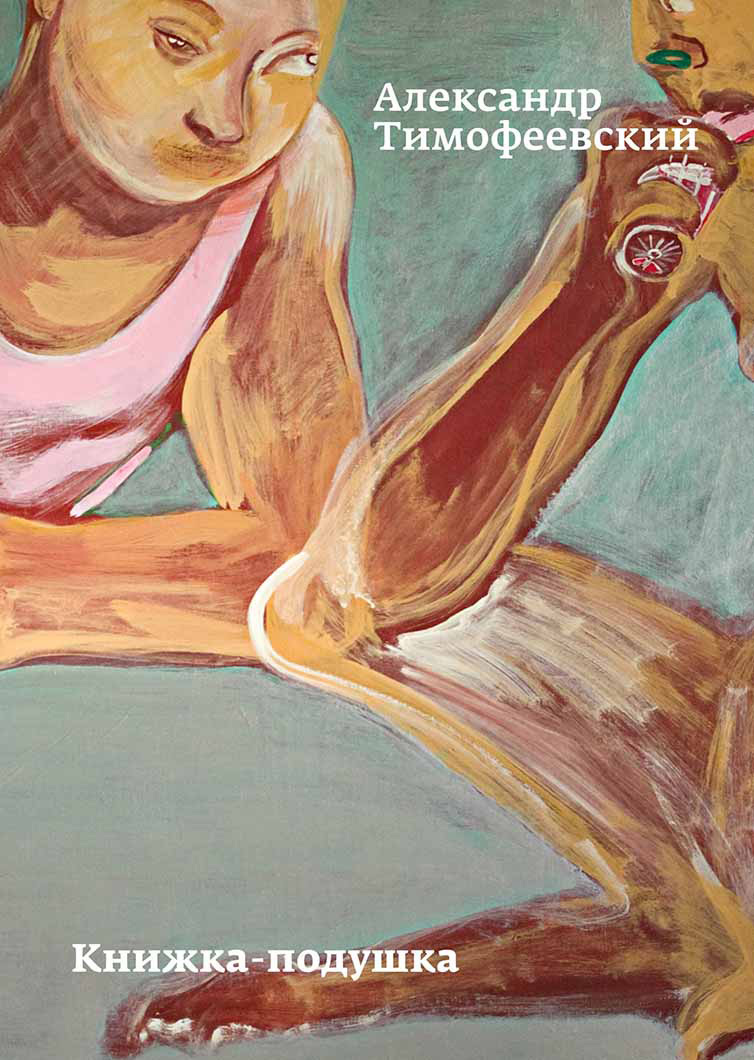фильм, а в Швеции еще долго будут снимать «бергмановские картины без Бергмана».
«Бергмановские картины без Бергмана»
В интервью журналу «Сеанс» шведский кинокритик Ульрика Кнутсон так расшифровала это понятие: «Речь не только о фильмах, которые снимаются его учениками и последователями, сотрудниками съемочной группы и членами его семьи, но также и тех, что используют его семейную хронику, которая стала для Швеции частью национальной мифологии. Этот жанр берет начало от фильма «Фанни и Александр».
Там впервые возникли герои, которые затем будут воплощаться во многих произведениях. Сильная, грозная бабушка, сумасшедший дядюшка Карл, строгий религиозный папа.
Затем появились бергмановские романы и их экранизации, сделанные другими режиссерами: «Благие намерения», «Воскресный ребенок». Из своей семьи Бергман сотворил семью мифологическую. Мы узнаем этих людей, как узнаем персонажей из телесериалов. Их жизнь в сознании зрителей и читателей — это немножко странная смесь мифологического и реалистического. В последние пятнадцать — двадцать лет многие начинают использовать Бергмана, как он сам использовал Стриндберга. Однако в этих фильмах всегда чего — то не хватает. Они, конечно, очень похожи на Бергмана и иногда даже точно воспроизводят его стиль, почерк, его основные мотивы. Но это скорее документальное кино».
Все так, но одно из двух: либо в картинах, о которых речь, хватает решительно всего, либо там ровным счетом ничего нет. Впрочем, и то и другое будет верно. Во всяком случае, все «бергмановские фильмы без Бергмана» совершенно одинаковые. И непонятно, почему жюри Каннского фестиваля выделило именно «Благие намерения» Биле Аугуста, присудив им аж «Золотую пальмовую ветвь», которую, к слову сказать, никогда не получал сам Бергман. Эвфемистический термин «документальное кино», употребленный деликатной шведской критикессой, вполне справедлив в том смысле, что это фильмы, из которых выхолощено все художественное, все индивидуальное, прихотливое, монструозное и авангардное, что составляет мировую славу великого шведа. Осталось лишь то, из чего Ингмар Бергман произрос: рождественская елка со свечами, аккуратный шведский дом с палисадником, скудная северная природа, лысая земля под медленно тающим снегом да храм неподалеку, где лютеран богослуженье, обряд их важный, строгий и простой. Проделав полный круг, искусство Бергмана вернулось к своим истокам, став частью ненавистной буржуазной традиции, с которой всю жизнь воевало. Когда — то первый авангардист превратился теперь в последнего классика, и это, пожалуй, самый замечательный кульбит из тех, что демонстрировал Ингмар Бергман.

Хендрик Аверкамп. «Зимний пейзаж»
Июль 1988
Выступая по радио, Сергей Соловьев назвал свою картину «рыночным ковриком со вставками из Баха». Переводя это поэтическое выражение на скучный язык искусствоведческих понятий, скажем так: Соловьев в «Ассе» самым решительным образом повернул к эстетике постмодернизма. Нарочитая эклектика, сочетание нестыкуемых структур, обращение к детективу, к мелодраме — к «низким» жанрам с высокими целями, игра с кичем и масскультурой, обилие цитат как подлинных, так и мнимых и даже откровенно бессмысленных, заведомая пародийность любых утверждений вплоть до самых излюбленных — эти общие для постмодернизма черты в большей или в меньшей степени сказались в «Ассе».
Сам по себе термин этот у нас все еще не в ходу. Не приживаются и его синонимы — «новая эклектика», «плюралистический стиль» и другие, за исключением одного, наоборот, быстро укоренившегося. Так называемый «слоеный пирог» сразу пришелся по вкусу нашим теоретикам. Не самый великий термин, но дело не в терминах.
В «Ассе» действительно можно выделить по крайней мере пять слоев. Первый — детективный, с гангстером по фамилии Крымов, с мафией, милицией и «кагэбэшниками». Второй — мелодраматический: стареющий гангстер, его молодая любовница и юный рокер, мальчик Бананан. Третий слой — «роковый» — включает в себя песни Бориса Гребенщикова, контркультурный дизайн жилища Бананана, его «авангардные» сны и т. д. Четвертый слой, казалось бы, совершенно неожиданный — исторический анекдот, обстоятельства убийства Павла I, своего рода пародия на Историю, снятая подчеркнуто театрально, даже бутафорски. Наконец, пятый слой — верхний или нижний, как посмотреть, но в любом случае самый тонкий, самый важный и даже, может быть, единственно важный — образуется из причудливой комбинации всех четырех предшествующих: уже не исторический анекдот, а наша анекдотическая История, трагифарсовый образ эпохи застоя, зимняя Ялта 1980 года. Не успела «Асса» выйти на экраны, как ее стали судить тем судом, которому она совершенно неподсудна, но каким у нас судят решительно все пироги — и слоеные, и песочные, и дрожжевые — с одной — единственной точки зрения: похоже на жизнь или не похоже. В статье «Легко ли быть?..» («Известия», 1988, 8 февраля) Ст. Рассадин писал: «В ней («Ассе». — А. Т.) изображен мир, где, допустим, юная женщина может быть любовницей чудовищного преступника, убийцы, сохраняя при этом ненарушимую трепетную чистоту, ну, скажем, Татьяны Лариной. Любовь слепа? Очень может быть, но ведь все — таки не настолько, чтобы не разглядеть огромных, до очевидности неправедных денег, пугающе, я бы сказал, неправедных. Одно из двух. Либо меня хотят уверить, будто вполне возможно мирно сосуществовать и даже влюбленно сожительствовать с броско воплощенными Злом и Преступностью, ничегошеньки не теряя от этого душевно, либо (что все же приятнее предположить) просто не слишком считаются с элементарной зрительской сообразительностью, допуская, что я, как и героиня, с самых первых минут не раскушу знакомо — американизированного гангстера с его неотразимым отрицательным шармом и эффектной широтой обладателя сверхбешеных денег».
Обладая зрительской сообразительностью многоопытного Ст. Рассадина, можно было бы раскусить не только знакомо — американизированного гангстера. Так, например, очевидно, что и гангстер — «любовник старый и красивый», и его содержанка с неземным обликом и неземным именем Алика, и юный рокер — юный рыцарь, бедный, но гордый романтический воздыхатель, — персонажи — знаки, модифицированные маски бульварного романа, от которых по определению нельзя требовать ни психологически достоверной биографии, ни психологически узнаваемых характеров. Любопытно, что роковый прикид не скрывает, а, наоборот, выявляет знак. Бананан, вставивший в ухо оправленную в виде серьги фотографию Алики, — это ли не романтический воздыхатель, который носит при себе платок прекрасной дамы?
Точно так же очевидно, что сама расстановка сил в треугольнике заведомо предполагает кровавый исход, что он фатально предопределен логикой избранного жанра, и от нас этого не собираются скрывать, напротив: пистолет в руках Алики — ружье, выстрелившее в пятом акте, — наверное, не зря появилось в первом. И уж совсем не зря окровавленный Крымов падает на розы (алая кровь на алых цветах), словно специально для этого случая расстеленные. Ведя